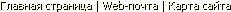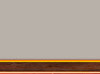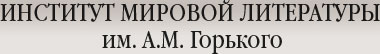ЛИТЕРАТУРА И ДОКУМЕНТ:
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ТЕМЫ
(материалы «круглого стола»)
27 мая 2008 г. в Институте мировой литературы им. А. М. Горького Российской Академии наук в рамках работы Отдела комплексных теоретических проблем состоялся «круглый стол», посвященный феномену «документальности» (организатор – литературовед и критик Елена Местергази). Открыл дискуссию известный теоретик Петр Палиевский, инициатор изучения данной темы в академической науке. До сих пор не утратили актуальности его статьи «Роль документа в организации художественного целого», «Документ в современной литературе» и др.[1]
Петр Палиевский,
доктор филологических наук, главный научный сотрудник ИМЛИ РАН
С той поры, как у нас стали говорить о новой художественности документа, положение художественной литературы вряд ли улучшилось. Ее все больше забивает, заглушает и перекрывает изготавливаемый заранее стандарт, - во всех его разновидностях: от самозваного интеллектуального до открыто наркотического, массового. Художественность документа не является здесь исключением. В частности, те ее примеры, которые приводит в своей книге[2] Елена Георгиевна в виде радующих успехов, представляют собой, на мой взгляд, жестокое и беспардонное использование документа, подавление его правды плоской однозначной правдой «направлений».
Между тем, у неподдельной художественной литературы, как и восполняющего ее документа, есть некий секрет, с которым не желают считаться направленцы. «Как ни странно, - сказал Толстой, - но искусство требует даже большей точности, чем наука». У образа есть свой способ добывания истины: точность единственного, неповторимого индивидуального поворота жизни, события или лица, выражающего смысл их существования. Уловить или воссоздать воображением такой момент удается далеко не всем и не всегда; настойчивым преследованием его не добудешь. Вывести научные закономерности его появления, рекомендуя их писателям, тоже вряд ли достижимо. Скорее оно похоже, если сослаться снова на классика, на то, чем защищался от назойливых доктринеров Пушкин: «Не говорите: иначе нельзя было быть… Ум человеческий по простонародному выражению, не пророк, а угадчик, он видит общий ход вещей и может выводить из оного глубокие предположения…, но невозможно ему предвидеть случая – мощного, мгновенного орудия провидения».
Мне кажется, читатель, сколько бы его при этом ни обманывали, обращается к писателям и «литературе человеческого документа» потому, что хочет расслышать этот голос провидения, - неожиданную, непредсказуемую, но и открывающуюся для всех объективную истину.
Поэтому мне очень понравилось возобновление нашей темы в тех словах, какие нашла для нее книга Местергази. Именно – «документальное начало» - стихия, прокладывающая себе дорогу в разных жанрах и видах разной силы и достоинства. Пути проникновения этого начала в литературу обозначены убедительно и четко, не считаться с ними невозможно. Они, кстати, дают выход из безнадежно слепого деления литературы на fiction и nonfiction, которым почему-то оформлена вторая редакция книги[3].
Елена Местергази,
кандидат филологических наук, старший научный сотрудник ИМЛИ РАН
Документальное начало в литературе и задачи современной теории
О существовании документального начала в литературе было известно с незапамятных времен, но второй половины XIX в. в его развитии не наблюдалось сколько-нибудь видимых перемен. Наиболее радикальные изменения произошли в ХХ в., когда факт обрел «самостоятельное эстетическое значение», если воспользоваться выражением П.В. Палиевского. Родилась новая литература, устойчивого, всеми признанного имени для которой в науке нет до сих пор: едва ли не каждый называет ее по-своему и в частном порядке пытается определить ее место в традиционном ряду. Отошли в прошлое такие распространенные в литературной критике и журналистике рубежа XIX-XX вв. определения, как «литература сплетен и скандалов», «литература сточных труб», «правдивая летопись», «хроника событий», «фотография с натуры», «разговор с собой» и т. п. Однако за целое столетие отечественное литературоведение не слишком далеко продвинулось в выработке категориального аппарата. Сегодня в отечественной науке в качестве синонимичных успешно функционируют понятия, не всегда таковыми являющиеся: «документальная литература», «документально-художественная литература», «газетно-журнальная документалистика», «литература факта», «человеческий документ», «литература нон-фикшн / non-fiction», «автодокументальный текст», «эго-документ» и т. д. Большинство из них рождено в литературно-критической практике и «официально» наукой не признано, не имеет прочного статуса.
Удивительная разноголосица царит и в сфере таких жанровых обозначений, как «дневник», «мемуары», «записки», «автобиография», «биография» и т. п. Именно поэтому пока оправданным представляется использование словосочетания «документальное начало в литературе», не имеющего строго терминологического характера, но вместе с тем емкого и верного по своей сути.
Причин, вызвавших столь мощный всплеск в развитии документального начала в литературе, много: и «поляризация в ХХ в. вымысла и правды, зачастую столь мирно неразлучных в предыдущие эпохи; и интенсивность современной жизни, и способность факта (документа) дать выход «таланту самой жизни» и т. д. и т. п.
Но главная причина все-таки кроется не в неких, что называется «технических», возможностях факта (документа) в организации художественного целого, а в его способности реализовывать ту важнейшую и труднейшую задачу, которая носит всеобщий (всемирный) характер и выдвигается на первый план в литературе XX века. Суть этой задачи, наверное, сам того не ведая, еще в 1915 году прекрасно сформулировал М. М. Пришвин: «Дело человека высказать то, что молчаливо переживается миром. От этого высказывания, впрочем, изменяется и самый мир».
Основная задача, на мой взгляд, в разработке интересующей нас темы сегодня должна лечь на плечи теоретиков литературы. Существует назревшая необходимость в целостном осмыслении феномена литературы с главенствующим документальным началом и его комплексном исследовании, подразумевающем разработку терминологического инструментария; изучение жанровых образований и различных модификаций внутри одного жанра; разработку системных представлений о данном виде литературы; изучение роли автора в такого рода литературе; разграничение документального и псевдодокументального и т. д.
Это общий круг вопросов. Конечно, сразу объять необъятное никак нельзя. Но постепенно, последовательно продвигаясь в этом направлении, можно, вероятно, достичь определенных успехов на этом пути.
Алексей Варламов,
доктор филологических наук, профессор филологического
факультета МГУ
Страшная месть, или Елена Сергеевна Булгакова в современных истолкованиях
Личность Е. С. Булгаковой, третьей жены М. А. Булгакова, всегда привлекала особое внимание исследователей, в ней искали и находили прототип Маргариты, приписывали ей то черты ведьмы, то называли ангелом-хранителем писателя, сотворяя миф на мифе. Но несколько лет назад возникла новая «концепция» ее судьбы. Она была сформулирована в письме невестки Елены Сергеевны Дзидры Эдуардовны Тубельской к Мариэтте Омаровне Чудаковой, где было высказано предположение о том, что знакомство писателя и его третьей жены произошло по воле и заданию НКВД. Письмо это, как рассказывала Дзидра Тубельская в одном из интервью, появилось на свет следующим образом: «Когда Чудакова узнала, что я имею отношение к Булгаковым, она вцепилась в меня как цербер. В Дубултах за разговорами мы с ней нагуляли не один десяток километров – обсуждали, какова была роль Елены Сергеевны, как она полюбила Михаила Афанасьевича… Она попросила меня написать письмо на эту тему. Шли Тыняновские чтения, и мой опус поместили в сборник материалов. Узким специалистам, возможно, было интересно».
Тут вот что странно. Зачем было М. О. Чудаковой, обыкновенно очень строго относящейся к фактам, во-первых, провоцировать написание этого письма, во-вторых, публиковать его в серьезном научном издании, а в-третьих, сопровождать странным, поверхностным и некритичным комментарием? Самая упрямая вещь в мире – не факты. Самая упрямая - убеждения и предубеждения. Когда М. О. Чудакова опубликовала статью «Материалы к биографии Е. С. Булгаковой», где создала замечательный по яркости и противоречивости портрет своей героини и где поместила вышеупомянутое письмо, то она высказала в целом не слишком одобрительное к Елене Сергеевне отношение. По ряду причин. Елена Сергеевна была, по мнению автора статьи, не слишком политкорректна в еврейском вопросе («…слова и интонации Е. С. в наших беседах 1969-70 гг., не раз оказывались на грани выражения неприязни к евреям. Но эта грань – при подлинной артистичности Е. С. и ее виртуозное владение обертонами голоса и интонации – никогда не переступалась»); в 60-е годы она лавировала между «интернационалистами» и «русской партией» и в большей степени склонялась ко второй, чувствуя в ней большую силу, а также создавая себе в глазах властей репутацию патриотки, благодаря чему ее выпускали за рубеж и не обыскивали на таможне (именно таким образом Елена Сергеевна сумела вывести на Запад и продать «Собачье сердце», купив на эти деньги меховое манто); вдова Булгакова охотно принимала у себя идейных противников М. О. Чудаковой П. В. Палиевского и В. В. Петелина, саму же Мариэтту Омаровну, по словам С. А. Ермолинского, раскусила и, видимо, в чем-то не очень ей доверяла. Но все это, повторим, убеждения, которые, несомненно, как и всякие убеждения и принципы, заслуживают уважения, а также свидетельствуют о полной идеологической, а еще больше психологической несовместимости Е. С. и М. О., однако фактами не являются.
А если исходить из фактов, то они говорят о несомненности того, что – да, в середине 30-х Елене Сергеевне безумно нравилась светско-заграничная жизнь, да, она не без тщеславия отмечала, что они с мужем одни из немногих, кто присутствует на закрытых вечерах и просмотрах, да, ей льстило, что их ласкает дипломатический корпус, она с удовольствием описывала, в чем одета, с кем танцевала, что едят и что пьют, и опять же можно ее за этот внешний блеск сколько угодно осуждать, можно Елену Сергеевну откровенно недолюбливать за отсутствие принципиальности и за страсть к красивой жизни – но делать на этом основании вывод о фальшивом содержании, о том, что жена следила за мужем и пусть даже из благих пожеланий писала донесения и оперативки в НКВД? Что тут скажешь? Разумеется, если отбросить за ненадобностью презумпцию невиновности и с легкостью объявить ее факультетом ненужных вещей, можно предположить что угодно, да и кто запретит серьезному ученому высказывать серьезные научные гипотезы?
Единственный из доступных документов, который косвенно может быть истолкован в пользу версии о сотрудничестве четы Булгаковых с НКВД, М. О. Чудакова привела в лаконичном материале с неброским названием «К статье “Осведомители в доме Булгаковых”», опубликованном все в том же «Тыняновском сборнике» в 1998 году. Исследовательница цитирует служебную записку из архива ФСБ, суть которой заключается в том, что в конце марта 1933 года в доме британского поданного Сиднея Бенабью состоялся вечер в честь «приглашенного им драматурга Булгакова».
Разумеется, точку в данном вопросе может поставить лишь ФСБ и, если когда-нибудь это ведомство предаст гласности все, что имеется в его архивах о Булгакове, и вдруг выяснится, что бдительная М. О. Чудакова была права, то трижды хвала ее проницательности – но покуда весь этот странный сюжет кажется не более чем запоздалой местью или неудавшимся разоблачением той, кто так много для Мариэтты Омаровны сделала...
Людмила Луцевич,
доктор филологии, профессор Варшавского университета
Документальность и эго-документ
В моем представлении, документальность в литературе – это своего рода интенция, то есть стремление к свидетельствованию, к факту (события, лица, предмета, психического, интеллектуального состояния и проч.); затем качество мысли и, наконец, разновидность текста. Творческое сознание писателя, интересующее нас всех в первую очередь, создает эстетически завершенную художественную реальность (основанную на документе, например, Война и мир Л.Толстого), но и не менее определенную форму эмпирической реальности, получающую свое закрепление в так называемой «обыденной» литературе, в частности в эго-документах (Дневники, Письма Л.Толстого). Исследователь получает возможность изучать писательское сознание как через созданные им художественные образы, так и через конкретные эмпирические наблюдения, ситуации, картины, фигуры, размышления, чувства, обобщения, нашедшие свое воплощение в т.н. «предлитературе». Некий раздел литературоведения и может развиваться как эмпирическая наука. Но сейчас это не столь интересно. Современная филология в целом и литературоведение в частности становятся принципиально полидисциплинарны, они направлены на понимание человека в его самых разнообразных чувственно-мыслительных процессах, получивших свое выражение в слове. Вне этой полидисциплинарности уже трудно представить себе содержательный разговор и по такой значимой проблеме, как документальность, документальная литература в целом и писательский эго-документ в частности. Эго-документ – это своего рода фактический материал для мемуаров, которые являются вариантом автобиографической литературы, соотносящейся с документальной. Эго-документ идентифицируется с понятием реальная человеческая личность – он аутентичен, реален, правдоподобен (сознательно ухожу от слова «правдивый»), изначально соотносится с частным лицом. Эго-документ – слово, производное от двух слагаемых латинского происхождения (лат. ego – я + лат. document - свидетельство, доказательство), имеющее значение - я свидетельствую (о себе). Он обладает специфическими чертами и свойствами, определяемыми именно первой частью понятия – эго. Эго в свою очередь – это та часть человеческой личности, которая осознается как я и находится в разнообразных контактах с окружающим миром. Мне думается, особое значение в процессе самоотождествления личности с эго приобретают рефлексия, память и интерпретация. Рефлексия необычайно важна при самопознании индивидом внутренних психических актов и состояний (самоанализ, осмысление, оценка собственной внутренней жизни); память обеспечивает накопление впечатлений об окружающем мире, а также знаний, умений, навыков и осуществляющая связь времён (прошлого, настоящего, будущего); интерпретация значима как способ бытия, который существует в определенном понимании. Личность автора является смысло- и структурообразующей в эго-документе, именно ее рефлексии, память, интерпретации обусловливают самое повествование. Эго-документы как «записи для себя» в их многообразных вариантах раскрывают «кухню» личностного мышления и творчества. Интересно для литературоведения и существующее в современной психологии понятие эго-концепция (динамичная система представлений индивида о самом себе, на основе которой он строит свое взаимодействие с другими людьми). Эго-концепция включает различные компоненты: когнитивный (самосознание), эмоциональный, оценочный, волевой, креативный, др. Безусловный интерес представляет вопрос об авторской позиции в эго-документальном повествовании. Ведь автор особым образом структурируется в аутентичном тексте. Актуальность при этом приобретает проблема совпадения/несовпадения автора повествования и героя-повествователя. Подчеркну, что, предпринимая попытку определения эго-документа, мы неизбежно наталкиваемся на целую совокупность разнообразных вопросов – простых и сложных - нуждающихся в решении: Что представляют собой собственно эго-жанры: аутентичные дневник, письмо (эпистолярий), записная книжка, автобиография, мемуар…? Каковы особенности функционирования т.н. аутентичных жанров в литературном процессе? Существует ли особый тип образности (художественности) аутентичного текста и, следовательно, его специфика? В каких соотношениях находится «эго-документ в литературе» с близкими, но не адекватными понятиями - «мемуарная литература», «автобиографическая литература»? Какое место занимает эго-документ в документальной литературе и в литературе художественной? Какова роль эго-документа в литературном произведении, литературном процессе…и т.д. и т.п. Вопросов, как видно, пока больше, чем ответов. Но это-то и представляет интерес для исследователей, объединившихся по инициативе Е. Местергази за круглым столом ИМЛИ.
Борис Осипов,
доктор филологических наук, языковед, профессор Омского государственного университета
Серия «Народные мемуары»: итоги, проблемы, перспективы
С середины 90-х гг. в Омском университете под руководством автора этих строк издаётся серия воспоминаний простых людей «Народные мемуары». На начало 2008 г. в в этой серии издано 6 книг: «Автобиографические записки сибирского крестьянина В. А. Плотникова» (1995), «Воспоминания работницы М. Н. Колтаковой «Как я прожила жизнь» (1997), «Документальная автобиографическая повесть сельского учителя А. У. Астафьева «Записки изгоя» (1998), «Солдатские воспоминания Н. Ф. Шульгина и Г. П. Еланцева» (2000), «Воспоминания А. Н. Белозёрова «Записки районного служащего» (2002) и «Мемуары врача К. Г. Акелькиной» (2007).
Каждый выпуск снабжен, во-первых, предисловием, представляющим собой краткое исследование рукописи и описание правил, по которым она публикуется, и, во-вторых, комментарием, содержащим разъяснения непонятных для современного читателя мест текста, толкования малоизвестных топонимов, терминов, диалектизмов и сведения о малоизвестных или неизвестных широкому читательскому кругу лицах, упоминаемых мемуаристом. Кроме того, некоторые выпуски содержат приложения, в которых комментируются и дополняются те или иные места прежних выпусков, если о текстах или авторах этих выпусков получены новые сведенияКакие проблемы возникают при публикации подобных материалов и при их последующем изучении?
Другая проблема, касающаяся исследовательской работы с уже опубликованным текстом, состоит в оценке достоверности воспоминаний. Литературу такого рода трудно назвать в полном смысле документальной. Правда, некоторые мемуаристы (например, А. Н. Белозёров) активно используют собственно документальные источники (отчёты о работе каких-то организаций и т. п.), но чаще содержание книг серии представляет собой личные впечатления мемуариста, которые могут быть и неполными, и ошибочными. Поэтому такого рода литература свидетельствует не столько о самих событиях нашей истории того или иного периода, сколько о характере восприятия этих событий тем или иным социальным слоем и об их оценке представителями данного слоя. Это не столько рассказ о том, что было, сколько о том, что и как запомнилось и что не оставило следа в памяти рядового гражданина.
Серьёзным вопросом является проблема вымысла и образности. У некоторых авторов (например, у Н. Ф. Шульгтна) наблюдается ярко выраженное стремление писать, «как настоящий писатель», а это приводит не только к цветистым длиннотам и другим собственно стилистическим грехам, но и к стремлению «дорисовать», домыслить какие-то моменты в повествовании (придумать диалоги, свидетелем которых мемуарист не мог быть, те или иные сцены, оживляющие, по мнению мемуариста, рассказ о событиях и т. п.). Конечно, в «наивном письме» такие места часто бросаются в глаза и без особенного труда вычленяются исследователем. Но так или иначе данный факт требует внимания и должен постоянно учитываться.
«Народные мемуары» привлекли внимание филологов, историков, философов, фольклористов. Серия продолжается, и интерес к ней растёт не только у специалистов, но и в широких кругах читателей.
Ольга Овчаренко,
доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник
ИМЛИ РАН
О документальном начале в поэме Камоэнса «Лузиады»
Португальская литература Возрождения характеризуется интересом к документальному началу, что, по-видимому, объясняется, говоря словами П.В.Палиевского, «интенсивностью жизни» в эпоху великих географических открытий.
Поэма Камоэнса «Лузиады» основывается на документальном материале; документальный «первоисточник» найден практически для каждой ее октавы. Принципиальное значение для формирования исторической концепции, лежащей в основе «Лузиад», имели труды португальского хрониста Гомеша Эанеша Зурары «Хроника взятия Сеуты» (1450), «Хроника деяний в Гвинее» (1453), «Хроника дона Педру де Менезеша» (1463), «Хроника дона Дуарте де Менезеша» (1468) и произведения «историко-географической» литературы- «История открытия и завоевания Индии португальцами» (1551-1561) Фернана Лопеша де Каштаньеды и «Декады»
(1552-1615) Жуана де Барруша. В докладе рассказано об этих произведениях, оба автора которых пострадали от участников описываемых событий и их родственников, не согласных с интерпретацией своих деяний. При этом эти авторы были антиподами в смысле понимания исторической правды, дискуссия о сущности которой охватила всю португальскую литературу XV-XVI вв. Если Каштаньеда исходил, прежде всего, из правды факта, то Барруш, вслед за Зурарой, подчинил свое изложение определенной исторической концепции, стремясь всячески подчеркнуть героизм и благородство участников великих географических открытий и выполнение ими провиденциальной миссии распространения христианства во вновь открытых землях. Уже в 1589 г., обобщая опыт португальских историков, брат Амадор Аррайш говорил: «Не было недостатка в португальцах, которые пытались написать историю нашего времени, но некоторых из них так критиковали, что лучше бы им было провести жизнь в полном молчании».
Камоэнсу близка формула великого испанского поэта Алонсо де Эрсильи –la verdad cortada a su medida – правда, высказанная в меру.
Камоэнс в «Лузиадах» противопоставляет правду реальных событий фантазии поэм Боярдо и Ариосто и утверждает: «Правда, которую я пою, нагая и чистая, победит любые красноречивые писания»(“A verdade que eu canto, nua e pura,/ Vence toda grandíloqua escritura!”)
В докладе исследована зависимость Камоэнса от его предшественников, но в то же время показана его полная художественная самостоятельность, ибо вымышлен в «Лузиадах», прежде всего, хронотоп: португальцы из крохотного графства создают великую морскую империю, героически отстаивают свою независимость в битвах с арабами и кастильцами, упорно исследуют побережье Индии, гибнут при попытках обогнуть Мыс Доброй Надежды и все-таки его огибают, экспедиция Васко да Гамы открывает морской путь в Индию, Магеллан осуществляет кругосветное путешествие, а Кабрал открывает Бразилию. Вся нация вдохновляется единой идеей, дети продолжают дело отцов, короли являются отцами отечества. А если они оказываются недостойными правителями, им быстро приходится уступить свое место более достойным претендентам. При этом поэт сумел дать такой подбор описываемых событий, что эта концепция не только прозвучала убедительно, но во многом способствовала формированию португальской национальной психологии.
Документализм «Лузиад» Камоэнса был проявлением их ренессансного реализма. С гениальной интуицией Камоэнса нашел золотую жилу, определив на много веков вперед развитие эпопеи и связав ее с национально-исторической проблематикой. Камоэнс вообще во многом заложил основы документализма в эпопее. Так, и в «Войне и мире» Толстого, и в «Тихом Доне» Шолохова присутствует документальное начало, но оно не делает их авторов своими рабами. Их исторические концепции (например, исторический фатализм Толстого) складываются не только в опоре на факты, но подчас и в определенном противоречии с ними.
Историческая концепция Камоэнса опирается, прежде всего, на подбор таких фактов, которые верно отражают дух его народа и его вклад в мировую историю, что и обусловило жизнеспособность его поэмы.
Алла Большакова,
доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник ИМЛИ РАН
Литературный документализм и жанр семейной хроники
Обращаясь к истокам документального начала в литературе, современные исследователи считают вторую половину ХIХ в. тем периодом, когда факт «впервые сдвинулся со своего места внутри образа и попытался что-то самостоятельно сказать» (П.Палиевский), когда впервые писатели «почувствовали в фактах “нaступление художественного смысла изнутри самого материала” и пошли навстречу нарождающемуся явлению» (Е. Местергази). Спор вокруг этого феномена, получившего всемерное развитие в ХХ в., не утихает до сих пор: в первую очередь, из-за терминологической непроясненности. Введенный в 1920-х, но мало прижившийся термин «литература факта» сменился в 1980-х нечетким определением «документальная литература». Сейчас всё чаще употребляются словосочетания «литературное начало» и «(литературный) документализм».
Еще более сложен вопрос о содержании данного термина: возможные классификации (к примеру, Б.Агапова, искусственно отделяющего документальный материал от субъекта текста) грешат недоучетом роли (образа) автора в такого рода произведениях, где документальный материал пропущен через субъектную сферу автобиографического повествователя – неотделим от него как факт жизни и судьбы. Автор(-повествователь) здесь отнюдь не скромный фиксатор и обработчик фактического материала, как представляется иным исследователям, но – центральная фигура, посредник между читателем и исторической реальностью, очевидец, наблюдатель и хроникер изображаемых событий. Это своеобразный летописец национальной жизни, пропущенной сквозь горнило автобиографического опыта и представленной читателю как нечто родное, бесконечно дорогое.
Также вызывает вопросы и определяемый исследователями жанровый спектр, из которого нередко выпадает (семейная) хроника. А ведь этот жанр с четко выраженной документальной основой – ведущий в творчестве таких русских классиков, как С.Аксаков («Семейная хроника», «Детские годы Багрова-внука»), Н.Лесков («»Захудалый род», «Старые годы в селе Плодомасове»), А.Мельников-Печерский («Старые годы»), М.Салтыков-Щедрин («Пошехонская старина»).
В центре семейной хроники – навеки запечатленный в личной (автобиографического повествователя) и общеродовой памяти образ родовой усадьбы: это место, освященное родовыми утратами и восполнениями, умираниями и новыми рождениями. Роль художественного пространства здесь велика: все помыслы и чувства автора (автобиографического повествователя) сосредотачиваются вокруг этого единого, передающегося по наследству места жизни, родового гнезда.
В целом, в литературном документализме на первый план выходит диалектика автора (авторского вымысла) и правды факта - в том числе и факта культурной памяти, в сферу которой входят, к примеру, «бродячие сюжеты», «вечные образы» (ср. образ русского Дон-Кихота в «Захудалом роде» Лескова). Вводя свои хроники, записки, воспоминания в сферу действия общих законов литературного творчества (в его развитии по линии «сквозных» образов и мотивов), автор хроники, однако, ставит своей целью запечатлеть исконные, старинные типы национальной жизни. По свидетельству Лескова, тем самым он «сберегает литературе звено чего-то пропущенного и до сих пор сохранившегося только в одних преданиях».
Думается, именно здесь – точка наиболее явного взаимодействия документального и художественного начал.
Татьяна Колядич,
доктор филологических наук, профессор кафедры русской литературы и журналистики XX-XXI веков МПГУ
Воспоминания писателей – текст и документ
К XX веку воспоминания писателей сложились в особую систему, развивающуюся по своим законам. Оставаясь ценнейшим источником познания прошлого, несмотря на авторский взгляд, откровенный субъективизм, некоторую предвзятость и даже мифологизированность осмысления событий, они представляют собой строго организуемую структуру.
Доминантными следует признать три составляющие, документальную, автобиографическую и мемуарную. Они и были последовательно рассмотрены в докладе. Т.М.Колядич установила, что налицо новое восприятие жанровой модели, точнее было бы говорить о понятии «метажар», вбирающий в себя разные мемуарные формы и по разному вбирающими в себе отмеченные компоненты, что и диктует обозначение отдельных разновидностей как лирической повести, автобиографический роман, роман о писателе, мемуарно-автобиографическая(биографическая) проза.
Существующая стереотипность восприятия, использование определений типа «литературные», «художественные» мемуары или «художественно-документальное направление» не позволяют описать те сложные (и даже гибридные) формы, которые получили распространение в XX веке. И самое главное, прийти к терминологической ясности. Автор предлагает термин воспоминания писателей как особую метажанровую систему. Налицо и другая тенденция, механическое использование инструментария западных исследователей.
Поэтому в настоящее время встает актуальная задача пересмотра жанровых парадигм и выведение новой классификации. Этой задаче и была посвящена конференция, ставшая началом осмысления одного из понятий «документального начала». Для воспоминаний оно является жанровообразующим. И потому особенно значимым.
Наталья Кознова,
кандидат филологических наук, доцент
Белгородского государственного университета
Структурообразующая роль дневникового и эпистолярного жанров в процессе создания мемуарной прозы
Давно установлен и общепризнан факт жанрового многообразия мемуарной прозы, ее особого синтетического характера. При этом устойчивыми жанрообразующими доминантами в мемуаристике по-прежнему остаются «память» и «субъективность», отраженные и преображенные в художественном слове. Сохранению стабильности присутствия этих двух составляющих в мемуарной прозе способствуют родственные жанры: дневниковый и эпистолярный.
Жанр дневника особенно близок писателям-мемуаристам, но не может полностью отождествляться с мемуарами, хотя их взаимодействие и взаимопроникновение находит подтверждение во многих текстах («Дневниках» З.Н. Гиппиус, книгах И. А. Бунина «Окаянные дни», И. С. Шмелева «Солнце мертвых», А. Ремизова «Взвихренная Русь» и др.), где дневниковые записи выполняют функцию художественно-стилистического приема, композиционно организующего повествование.
Дневниковые записи хронологически организуют воспоминания, помогают осмыслить прошедшие события, подвергнуть их анализу, сопоставить прошлое и настоящее, а в результате, приводят автора к выводам общеисторического и общечеловеческого характера. Писательский дневник — особое явление в литературном творчестве, выполняющее роль своеобразной лабораторией будущих образов и сюжетов.
Дневник, запечатлевает действительность с детальной точностью и в большей степени имеет право называться историческим документом, в отличие от литературных мемуаров, признанных художественными документами эпохи. Однако дневники и воспоминания, объединяясь, не только дополняют текст информативно, но и заметно усиливают художественную значимость друг друга.
Приступая к анализу эпистолярных вкраплений в мемуарную прозу, необходимо помнить, что письма, созданные в переломные моменты истории, повествующие об эпохальных явлениях и их отражении в частной жизни обычных людей, также обладают документальной ценностью и передают это важное качество мемуарам. Взаимодействие эпистолярного жанра с мемуарами многофункционально и сказывается на разных уровнях построения текста.
Во-первых, письма, содержащие описания прошедших событий, участвуют в создании мемуарного сюжета, часто образуя самостоятельный микросюжет.
Во-вторых, привлечение в мемуарный текст писем персонажей позволяет автору избежать резко субъективных оценок людей и событий. Включенные в эпистолярный текст характеристики мемуарных героев способствуют более глубокому осмыслению их психологического портрета.
В-третьих, цитируемые мемуаристами письма могут воздействовать на монологическую речь повествователя, превращая ее в диалог, ввергая автора в полемику, беседу со своими адресантами.
В-четвертых, письма, введенные в мемуары, не только подлинные свидетельства о фактах прошедшей жизни, но и хранители образов «героев своего времени». В них «оживают» голоса давно ушедших из жизни людей: именно эпистолярный стиль способен передать неповторимые стилистические, лексические и синтаксические особенности языка пишущего.
Все, перечисленные выше свойства эпистолярного и дневникового жанров хорошо известны писателям-мемуаристам и находятся в полном согласии с их желанием рассказать «о времени и о себе», не придерживаясь строгих рамок и условностей какой-либо одной жанровой системы, чем и объясняется частое включение писем и дневниковых записей в мемуарную прозу.
Александр Федута,
кандидат филологических наук (Минск, Беларусь)
The fiction of the non fiction,
или Почему не удалось Булгарину и удалось Одыньцу
В читательском сознании существует определенная «презумпция достоверности»: читатель или верит, или не верит в документальность либо «художественность» прочитанного им текста. Известны случаи, когда художественный текст, написанный от первого лица, воспринимается как документальный (записки, воспоминания, дневник). И, напротив, вероятна ситуация, когда как документальный воспринимается текст, содержащий значительную долю авторского вымысла.
Показательна история читательского восприятия двух мемуарных комплексов, созданных авторами-современниками. Это воспоминания Ф.В. Булгарина и польского поэта-романтика А.-Э. Одыньца.
По мере существования Булгарина как литератора в массовом читательском сознании его репутация подвергается существенному пересмотру. Аудитория раскалывается в своем отношении к нему. Первая группа, господствующая количественно, принимает Булгарина как писателя-беллетриста и редактора массовых изданий. Его романам, а еще более – газете и журналам – в определенный период сопутствует бурный успех: достаточно сказать, что «Иван Выжигин» был прочитан едва ли не всей Россией, начиная от лакеев и заканчивая императорской фамилией. Но литературные оппоненты (и торговые конкуренты) Булгарина опираются после разрушения монополии «журнального триумвирата» на большинство периодических изданий и на сложившуюся систему литературных связей так называемого «пушкинского круга». Булгаринская группа была разгромлена по нелитературным причинам властью (ее лидеры, Рылеев и Бестужев, были членами декабристских обществ). В результате отсутствовал круг влиятельных литераторов, пользующихся доверием значительного сегмента читательской аудитории, который мог бы подтвердить, что Булгарин-мемуарист заслуживает доверия.
Попытка обвинить Булгарина в неэтичности апеллирования к памяти – то есть, к прошлому, создать фиксирующий его документ, -- оборачивается компрометацией используемого им основного принципа верификации своих мемуарных текстов. Ему не верят даже тогда, когда он публикует документы, подтверждающие его правоту.
Иная судьба ждала воспоминания Антония-Эдварда Одыньца. Выпускник Виленского университета, член тайных студенческих обществ филоматов и филаретов, Одынец был отнюдь не перворазрядным польским поэтом-романтиком. Однако Одыньцу повезло: он прожил долгую жизнь. Ему было, о чем вспоминать. Мало того – была необходимость уйти от современности и стать персонажем общенационального прошлого.
Дело в том, что в 1858 году, в связи с посещением императором Александром II Вильны, он стал участником издания так называемого «Виленского альбома» - сборника написанных на языках ведущих народов Виленщины (поляков, литовцев и белорусов) верноподданнических текстов. Сам Одынец разместил в изданном А.-Г. Киркором «Альбоме» стихотворение «Приди, Царство Божие!».
Жест верноподданных литераторов воспринимался как измена по отношению к делу общенационального возрождения. Перед Одыньцом встала насущная необходимость позиционирования. И он это сделал через мемуары.
Переехав после подавления восстания 1863-1864 гг. в Варшаву, Одынец начинает публиковать в варшавских изданиях цикл эпистолярных текстов «Письма из путешествия» - «Listy z podróży» (с 1867 г., отдельное издание в 4 т. – 1878-79 гг.). По своей форме это послания, адресованные друзьям и содержащие заметки о совместном путешествии по России, Германии, Франции и Италии в 1829-30 гг. с Адамом Мицкевичем. Они великолепны по языку и точности наблюдений, содержат множество неизвестных до тех пор деталей. Лишь после смерти Одыньца исследователи и биографы Мицкевича попытались проанализировать его тексты с точки зрения содержательной.
Сопоставление опубликованных мемуаристом текстов писем с реальной корреспонденцией Одыньца доказало, что они не просто редактировались при подготовке автором к публикации, а весьма серьезно дописывались, причем дописывались с учетом прочитанного им у других авторов – с рассказом о том, свидетелем чего Одынец попросту не был. Таким образом, мы имеем в данном случае дело не с созданием художественного текста в форме травелога (как в случае с «Письмами русского путешественника» Н.М. Карамзина), а с фальсификацией фактов собственной биографии. Но даже критические отзывы не могли поколебать уверенности публики в том, что ей преподносят аутентичные документы. Почему?
Одынец публикует свои воспоминания в тот период, когда национальное сознание поляков переживает крупнейшую катастрофу – поражение второго за полвека крупного национально-освободительного движения. Утрачивается вера в мессианское предназначение народа, тщательно поддерживавшееся польской литературой. И легальное упоминание о Мицкевиче становится одновременно поводом к воспоминаниям о поколении, верившем в скорую победу и приближавшем ее. Читатель верил в истинность поведанного ему Одыньцом, во многом, потому, что хотел в нее верить.
Но точно так же читатель не хотел верить в истинность воспоминаний Фаддея Булгарина – и не верил ему, что бы ни пытался предпринимать Булгарин для защиты и доказательств своей правоты.
Таким образом, встает вопрос: что есть истина и что есть вымысел? Что есть документ и что есть художественное произведение – со всеми вытекающими правами автора во втором случае? Как разграничить fiction и non-fiction?
Попытаемся сформулировать некое определение, описывающее два приведенные нами примера и не претендующее на всеобщность.
Документ есть текст, созданный реально существовавшим (существующим, не вымышленным) лицом, содержащий описание реально имевших место фактов, опубликованный его автором либо иным лицом и воспринимаемый читателем в качестве достоверного (не содержащего сознательного авторского вымысла).
Документальное произведение есть произведение, в основе которого лежит документ, и воспринимаемое читателем в качестве достоверного (не содержащего сознательного авторского вымысла).
То есть, произведение является документальным в том случае, если оба основные участника акта литературной коммуникации относятся к нему как к документальному. Если автор создает документальный текст, а читатель воспринимает его как недостоверный (вымышленный, художественный), либо автор создает художественный (недостоверный) текст, воспринимаемый однако читателем в качестве документального, вопрос о документальной природе текста, на наш взгляд, должен решаться в зависимости от совпадения авторской и читательской интенций (то есть, оба участника коммуникативного акта должны признать его в качестве документального).
Анна Ганжа,
кандидат философских наук,
старший преподаватель кафедры наук о культуре Государственного университета— Высшей школы экономики
Философия документального
Чем похожи игра и вымысел? Ответ мы найдем в аристотелевской теории подражания. И игра, и литературный вымысел суть формы познавания — постольку, поскольку познавание суть цель и конечный результат подражания. Именно сказательный — мифический — характер рационального познавания посредством подражания заставляет подражателя говорить не о том, что было, а о том, что могло бы быть, будучи возможно в силу вероятности или необходимости. Если вымышленное и игровое раскрываются в модальности высокой вероятности, вплоть до необходимости, значит, документальное — то есть реальное «как оно есть» во всей своей голой очевидности — должно быть соотнесено с модальностью случайности и даже невозможности. То, что вполне возможно, закономерно и предсказуемо, является фикцией, — разумеется, в позитивном смысле удобного инструмента познания общего. И только невероятное, шокирующее, немыслимое и непредставимое доступно познанию в модусе очевидности и фиксированию в качестве документального. История всегда фикциональна, и только непосредственная фиксация настоящего — в тот момент, пока оно еще не стало бывшим и, следовательно, возможным — есть территория документалистики: фиксация невозможного и вместе с тем абсолютно невероятного и неубедительного, вызывающего вовсе не приятное чувство от погружения в сказочное, но полное когнитивное отторжение. Именно то, что мы видим собственными глазами, мы не способны понять и включить в обустроенный жизненный горизонт. Документальная фиксация того, о чем мы пока не можем говорить, позволяет, по крайней мере, молчать в присутствии реального.
Сегодня те, кто по своему статусу или роду занятий претендуют на документальное отображение реальности, не способны даже к поэтическому ее осмыслению. Журналисты конструируют реальность риторическими средствами, произвольно устанавливая меру истины. Человек, профессионально владеющий конструкторским набором фигур и тропов, способен выстроить вещи в ряд сотней разных способов и относительно сотни разных «первых вещей». Такой человек не знает меры. Ему недостает слуха, — то есть способности слышать в молчании, — чтобы расслышать: мера — та самая абсолютная вещь, относительно которой выстраиваются в ряд все вещи нашего мира — не может находиться на земле. Устанавливая каждый раз для себя меру из подручного, земного, составного, человек обречен на то, чтобы быть еще одной подручной, земной, разложимой на части вещью — мясной машиной. Многочисленные примеры подручности, посюсторонности и разложимости человеческих существ надежно задокументированы и транслируются сегодня по сотням различных каналов передачи «информации». Но все эти примеры далеки от того, чтобы охватить человеческую реальность целиком, в дымчатом отдалении, постичь ее в качестве мира, который есть только потому, что есть мера, которой отмеряно, сколько миру быть.
Татьяна Дронова,
кандидат филологических наук, доцент кафедры русской литературы ХХ века Института филологии и журналистики Саратовского
государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.
«Проблематизация» достоверности документа в художественно-историческом сознании ХХ века
Работа с документальными источниками - исходный момент творчества любого исторического романиста. Специфика исторического романа как тематической разновидности романного жанра состоит в осмыслении жизненной реальности, недоступной для непосредственного наблюдения. Выбор предмета познания - прошлого, не существующего как наличная материальная и духовная субстанция, делает неизбежным включение в процесс его постижения текстов-посредников (исторических документов, научных исследований, произведений литературы и других видов искусства изображаемой эпохи). Одной из интереснейших тенденций в отечественном художественно-историческом сознании ХХ века является отказ от «презумпции достоверности» документа: понимание ограниченности «правды» источника в силу его субъективного характера и текстовой (нарративной) структуры.
Изменение отношения к документу наблюдается как в научной (семиотические исследования – Г.Г. Шпет, Ю.М. Лотман и др.), так и в художественной мысли столетия (интеллектуальная рефлексия и художественная практика создателей философско-исторических повествований – Д.С. Мережковский, Ю.Н. Тынянов, М.А. Алданов). Первопроходческая роль в данном процессе принадлежит писателям, отстаивающим в полемике с позитивистски ориентированными учеными право на собственное «прочтение» истории. Д. Мережковского, Ю. Тынянова и М. Алданова (при всей разности философско-исторических и эстетических позиций) роднит понимание субъективности документальных свидетельств и активной роли субъекта познания (будь то историк или романист) в процессе истолкования документальных свидетельств.
У истоков «проблематизации» достоверности документа – творчество Д.С. Мережковского. Не отвергая документа как важнейшего источника исторических сведений, писатель полемизирует в 1910-е годы с современными ему историками, ставит вопрос о способах истолкования документа. Рациональному познанию писатель противопоставляет «подлинное» субъективное постижение минувшего, являющееся «делом не одного ума, но и воли, чувства, всех духовных сил человека». В структуре романов Мережковского подлинные и вымышленные документы, широко вводимые в текст, выполняют по преимуществу эстетическую функцию, являясь одним из голосов изображаемой эпохи. При этом документальный пласт повествования создает иллюзию достоверности, необходимую историческому романисту для диалога с читателем, распространяя ощущение подлинности на все пространство повествования. Д. Мережковский не ставит под сомнение истинности документа как такового. Этот шаг со всей определенностью делает в 1920-е годы Ю. Тынянов. Его рефлексия содержит «глубочайшее недоверие» к источнику - официальным и частным документам. Выявляя зоны недостоверности в документальных свидетельствах, Ю. Тынянов предлагает художнику стать исследователем, идти путем анализа и сомнения, приближающим к постижению реальности, стоящей за документом. Знаменитый тыняновский афоризм: «Там, где кончается документ, там я начинаю», – предполагает искушенность исследователя, а отнюдь не пренебрежение документом. Эстетическим итогом тыняновской «проблематизации» документа являются: отказ писателя от демонстрации документального плана повествования, акцентирование роли авторского пересоздающего начала.
М. Алданов подходит к проблеме относительности исторического познания с философской точки зрения. В публицистическом и художественном творчестве М. Алданова относительность исторического знания предстает как частный случай относительности человеческого познания в целом.
Суждения авторов исторических произведений о характере отношения к документу не только приоткрывают их творческую лабораторию, но и фиксируют сдвиги, произошедшие в художественно-историческом сознании эпохи, еще не ставшие объектом теоретического литературоведения.
Амина Газизова,
доктор филологических наук, профессор кафедры истории русской литературы ХХ века МПГУ
Черты документальной прозы в книге бесед
В.Г.Распутина с В.С. Кожемяко «Боль души»[4]
Своеобразно взаимодействуют приметы документальной и художественной прозы в книге, составленной из устных бесед журналиста с писателем. Они встречались ежегодно с 1993 года, свои диалоги закончили в 2007-м, перевели собранный материал в письменную речь и опубликовали их. В «Боли души» возникла своеобразная проза – не публицистическая и не документальная в принятом понимании, тем более не газетно-журнальная. Публицистические, документальные и журналистские высказывания в ней синтезированы и оформлены по правилам художественного слова. Поскольку интеллектуальный, аналитический, философский и эстетический анализ новой реальности делает художник, он художественно организует свою речь. Документальное начало в этой книге ярко выражено, ведь создана она очевидцами эпохи глобальных всемирных перемен. Фактография здесь густая, выразительная, подаётся экспрессивно. Очевиден концептуальный отбор реальных фактов и событий, их оценка – прямая, открытая, личностная – соответствует намерению собеседников сделать ощутимой душевную боль, которую вызывает мучительный и окончательно не проясняемый вопрос: Что мы переживаем? Преображение или перерождение России? Очевидно также, что многочисленные реальные факты не столько расширяют достоверное информационное поле для размышлений, сколько структурируют его пространство вокруг болевых точек, чтобы мысль вновь и вновь обращалась к вопросу: «что с нами происходит»? Видя неадекватное реагирование народа на вызовы неизведанной реальности, собеседники заводят разговоры об интеллектуальном её освоении, о грамотном считывании текста наступившей «новой календарной эры», когда Россия «вдруг сошла со своей орбиты и принялась терять высоту» и вновь произошёл раскол на «чужих» и «наших».
Наши и чужие – ключевые и лейтмотивные понятия. Противоречия, столкновения между олицетворяющими их силами, личностями воспринимаются как знак беды: «Перед нами уже не Россия, а её расхристанное подобие, нечто иное и малоузнаваемое». Преображения, как и в 1917 году, не случилось, а странное мистическое перерождение очевидно. Справляться с общенациональной бедой нужно по-пушкински – «самостояньем человека», традиционной верой, типом мышления, образом жизни: «Нам или придётся в короткое время стать сильными, притом двойной силой - духовной и физической, или готовиться к худшему».
Упования на духовную силу общенародного преодоления распада не беспочвенны и не безнадежны, ими «сгущаются» мысли об огромном историческом опыте сопротивления «чужим», о способности России к внутреннему преображению, ментальному обновлению, к росту и физических, и духовных сил. Поэтому во всех разговорных темах пятнадцатилетнего диалога господствуют две интонации: библейская («Объяли меня воды до души моей») и богатырская, державная.
В ведущей для всей книги теме традиций великой культуры две интонации переплетаются и придают ей оркестровое звучание. В нём с радостью узнаются радищевская трагедийная нота («душа моя страданиями человеческими уязвлена стала»), ведь она вошла в название книги – «Боль души»; гоголевская мелодия, которая пронизала все суждения о судьбе России; тургеневское «отчаяние при виде всего, что совершается дома» и прославление пушкинского гения в слове Ф.М. Достоевского, и толстовское «Не могу молчать!» Ключевые понятия, мотивы, музыкальное развитие основных тем указывают на эстетическое оформление диалогов. Традиционное для русской словесности синтезирование публицистического, художественного, документального начал проявило в книге В.Г. Распутина и В.С. Кожемяко своеобразие нового времени, переходящего в вечность.
Алла Громова,
кандидат филологических наук, доцент Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина (Санкт-Петербург)
Разновидности художественно-документальных жанров в творчестве Б.К. Зайцева
Одной из насущных задач современного литературоведения является изучение жанровых разновидностей документально-художественной литературы на конкретном литературном материале. Репрезентативно в этом отношении наследие Б.К. Зайцева – писателя, которому было органически присуще стремление прямо «выражать себя». В раннем творчестве (1901–1922 гг.) это стремление породило «скрытый автобиографизм», проявившийся в повышенном лиризме прозы. В эпоху исторических катаклизмов (1917–1922 гг.) автобиографизм стал выраженным, в творческой практике Зайцева появились жанры мемуарного очерка и литературного портрета. В годы эмиграции (1922–1972 гг.) документально-художественные жанры начали преобладать в творчестве писателя. Созданные в этот период тексты можно подразделить на несколько жанровых групп.
Во-первых, это произведения, основанные на книжных источниках: художественная биография и агиобиография как ее разновидность. К этой группе относится беллетризованное житие «Преподобный Сергий Радонежский» (1925) и биографии русских писателей «Жизнь Тургенева» (1931), «Жуковский» (1951), «Чехов» (1954).
В книге о Преподобном Сергии Зайцев опирался на житийные и исторические источники, причем его подход к описанию жизни святого принципиально отличался от подходов древнерусских книжников. Стремление к фактической достоверности и даже «наукообразности» повлекло за собой включение в текст цитат из летописей и научных работ, наличие примечаний и ссылок. С другой стороны, произведению Зайцева присущ психологизм, в повествование вводится пейзаж, портретная характеристика, бытовые детали, лирические отступления.
В произведениях о русских писателях XIX века Зайцев творчески применил каноны жанра художественной (или «беллетризованной») биографии, сложившиеся в европейской литературе в 1930-е гг. Черпая фактические сведения из мемуаров и научных исследований и сознательно избегая домысла, писатель реализовал собственную разновидность жанра – психологизированную биографию с преимущественным интересом к внутреннему миру изображаемого героя и подчеркнул религиозные основы миросозерцания и творчества русских классиков. Помимо описанных исследователями способов беллетризации текста (включение портретных и пейзажных описаний, реконструкция бытовых картин), следует также отметить создание автором мифопоэтического подтекста, связанного с мотивом сакрализации женственности.
Вторая группа документально-художественных жанров в творчестве Зайцева имеет мемуарную основу. Она представлена жанрами мемуарного очерка и литературного портрета, лучшие образцы которых вошли в циклы «Москва» (1939) и «Далекое» (1965). Жанр портрета родствен, но не тождествен мемуарному очерку: в мемуарном очерке объектом художественного исследования являются факты жизни автора, а также облик самого рассказчика, в литературном портрете жанровым объектом является личность одного из современников. В мемуарном очерке преобладают «общие», а в портрете – «крупные» планы изображения.
Третья группа жанров представлена в творчестве Зайцева путевыми циклами «Италия» (1923), «Афон» (1928) и «Валаам» (1936). Это произведения, совмещающие личные наблюдения (дневниковые записи) и материал, заимствованный из книжных источников историко-культурологического характера. При этом одна из составляющих может преобладать. Так, в цикле «Италия» доминирует лирико-эмоциональная стихия. В «Афоне» установка автора на изучение «экзотического» мира обусловила обращение к обширному кругу источников. Валаам сразу был воспринят как «свое», родное, русское, что привело к уменьшению доли справочного материала в описании путешествия.
Дарья Богатырева,
соискатель кафедры русской литературы и журналистики XX-XXI веков МПГУ
Цель данной статьи – выявить принципы и приемы выражения авторской позиции, авторскую роль в организации мемуарного повествования. Мы опирались на исследования М.М. Бахтина, С.Н. Бройтмана, В.В. Виноградова, Б.О. Кормана, Б.А. Успенского. Материалом для исследования послужила «Повесть о Сонечке» (1937), написанная Цветаевой по вести о смерти Сонечки, Софьи Евгеньевны Голлидэй (1894 – 1934) – актрисы и чтицы, работавшей во второй студии МХТ. В произведении автор воскрешает живой облик, образ ее Сонечки 1919 года, создается повесть о человеке, повесть личности, повесть судьбы.
Говоря о формах присутствия автора в «Повести…», отметим, во-первых, что авторская позиция заявлена с помощью композиционных форм. Цветаева выстраивает повествование концентрически, в форме двойного повествовательного кольца, со своими внутренними и внешними кругами и повествовательными «линзами» (название первой части — «Павлик и Юра», второй — «Володя»), преломление в которых (и через которые) дает дополнительный свет и тени, смысловые и судьбоносные оттенки основной повествовательной теме. В анализируемом тексте сюжет разворачивается в виде пунктов встреч, и все же расположение и соотношение частей дает нам возможность выявить авторскую позицию. Характерное для мемуарной прозы Цветаевой углубление в предысторию взаимоотношений с современником реализуется в произведении с помощью хронологически-дистанцированного повествования. Повествование ведется от первого лица, поэтому автор стремится реконструировать прежние чувства и переживания, намереваясь быть максимально честным и объективным, таким образом, подчеркивается документальность повествования.
В композиции произведения образ автора проявляется как точка видения, с которой изображается действительность. Происходит подобное видение в плане пространства и времени. В «Повести…» представлена множественность временных позиций, то есть временные позиции по-разному сочетаются друг с другом. Так, в одном случае повествование ведется одновременно во временной перспективе героя и вместе с тем в перспективе самого автора, точка зрения которого существенно отличается во временном плане от точки зрения героя.
Следовательно, «точки зрения» автора в плане пространственно-временной характеристики позволяют ему органически соединить воспроизведение реальных фактов с их художественной интерпретацией. В этом проявляется, прежде всего, синтез документального и художественного начал. С одной стороны, содержание «Повести…» составляют рассказы о событиях из жизни реально существовавших людей, повествование ведется с опорой на действительность, четко просматриваются вехи русской культурной жизни, которая является общей и для героев, и для автора – и в этом смысле оно документально и автобиографично. С другой стороны, эти события пропущены сквозь призму авторского видения и реализованы в тексте в сфере художественного творчества, следовательно, окрашены субъективными тонами.
Анализ «Повести о Сонечке» позволяет утверждать, что более органичным творческой манере автора является субъективно-авторское начало, активная авторская позиция. В тексте авторская позиция представляет «позицию биографической личности», проявляющаяся в выборе темы, предмета описания, героев, угла зрения на них, в той или иной форме характеров и обстоятельств.
Получается, что автор существует в тексте в двух ипостасях: автора-персонажа и автора-повествователя. В связи с этим описание чрезвычайно детализировано, так как именно это скрупулезное «собирание» осколков прошлой жизни дает автору (и читателю) ощущение ее реальности. Документализированность повествования осуществляется через деталь и метафоры, выстроенные на временных деталях («заставы догромыхивали»).
***
В ходе встречи состоялась оживленная дискуссия. П.В. Палиевский живо откликнулся на выступление А.Н. Варламова: как человек, лично знавший Е.С. Булгакову, он не только поддержал пафос выступления докладчика, но и попытался аргументировано доказать аудитории, что и М.А. Булгаков, и его жена объективно служили истине.
Также предметом горячего обсуждения стала терминологическая путаница, существующая сегодня не только в отечественной, но и в зарубежной науке. В дискуссии приняли участие Е. Местергази, Л. Луцевич, А.Ю. Большакова, А.И. Федута, Т.М. Колядич, А.В. Громова и др.
В завершении встречи Е.Г. Местергази акцентировала внимание присутствовавших на том, что в академической науке сегодня нет понимания того, что есть литература с главенствующим документальным началом. Низкая степень изученности темы отражает общее состояние современной теории, во многом не поспевающей за требованиями, выдвигаемыми жизнью. Е.Г. Местергази также отметила, что изучение документального начала в художественной словесности неизбежно повлечет за собой необходимость пересмотра многих коренных понятий, в частности, таких, как «литература», «писатель», «художественность» и других.
По единодушному мнению участников, собравшихся за «круглым столом», состоялся продуктивный, оживленный разговор на актуальную тему. Решено в ближайшие полгода провести вторую встречу на эту же тему.
[1] См., например: Палиевский П. В. Роль документа в организации художественного целого // Проблемы художественной формы социалистического реализма: В 2 т. М., 1971. Т. 1.; Палиевский П.В. Документ в современной литературе // Палиевский П. В. Пути реализма. Литература и теория. М., 1974.
[2] Имеется в виду: Местергази Е.Г. Документальное начало в литературе ХХ века. М.: Флинта; Наука, 2006.
[3] Речь идет о книге: Местергази Е.Г. Литература нон-фикшн / nonfiction. Экспериментальная энциклопедия. М.: Совпадение, 2007.
[4] Виктор Кожемяко. Валентин Распутин. Боль души. М.:Алгоритм, 2007. 288 с.