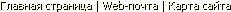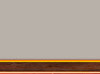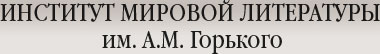|
|
 Об ИМЛИ
| Структура Института
| Отдел теории литературы
| Информация о конференциях
| Гоголь и Достоевский вокруг книги В.М.Крюкова «След птицы тройки. Другой сюжет «Братьев Карамазовых»»
Об ИМЛИ
| Структура Института
| Отдел теории литературы
| Информация о конференциях
| Гоголь и Достоевский вокруг книги В.М.Крюкова «След птицы тройки. Другой сюжет «Братьев Карамазовых»»
Гоголь и Достоевский
вокруг книги В.М. Крюкова
«След птицы тройки. Другой сюжет «Братьев Карамазовых»»
Круглый стол 18.05.09
18 мая 2009 года в Институте мировой литературы состоялся круглый стол, посвященный книге Василия Михайловича Крюкова (1962-2008) «След птицы тройки. Другой сюжет “Братьев Карамазовых”» (М.: Памятники исторической жизни, 2008). Китаист по специальности, заявивший себя в этой области фундаментальными трудами[1], Крюков еще молодым исследователем в начале 1990-х выступил и со статьями, посвященными русской литературе – прежде всего, творчеству Н.В. Гоголя[2].
В.М. Крюков родился в семье выдающихся ученых-китаеведов М.В. Крюкова и Хуан Шуин. В 1984 году закончил китайское отделение Института стран Азии и Африки при МГУ. В 1987 защитил кандидатскую, а в 1997 – докторскую диссертацию по теме «Текст и ритуал в древнем Китае». Начав свою профессиональную деятельность в Институте востоковедения РАН, затем работал в качестве приглашенного исследователя в Оксфордском и Пекинском университетах. С 1998 года работал на факультете русского языка и литературы и в Институте России Тамканского университета (Тайвань).
До выхода книги, посвященной тексту Гоголя, явленному и скрытому в тексте Достоевского, автор не дожил…
В круглом столе приняли участие: А.Б. Куделин, Т.А. Касаткина (ведущая), С.Г. Бочаров, Л.В. Карасев, Н.Б. Иванова, И.Б. Роднянская, В.К. Кантор, С.А. Небольсин, К.А. Степанян, Е.В. Степанян, А.Л. Гумерова, А.Г. Гачева, В.А. Губайловский.
Опубликован в сокращении в журнале «Вопросы литературы», июль-август 2010 года, стр. 314-359.
А.Б. Куделин: Рад приветствовать вас, дорогие коллеги, и хотел бы сообщить, что отец Василия Михайловича, Михаил Васильевич Крюков, присутствует на этом круглом столе.
Для меня весьма примечательным в обстоятельствах создания обсуждаемой книги было то, что Василий Михайлович Крюков – прекрасный, замечательный китаист. Именно это я хотел бы подчеркнуть, предваряя обсуждение специалистами по русской литературе книги о русской литературе. Вот представьте себе – человек занимается древней китайской культурой. Задолго до Рождества Христова начинаются исследуемые им памятники... Само углубление в эту культуру – я сам востоковед и знаю, что это такое – оно настолько у человека отбирает все соки, что после этого, казалось бы, очень трудно заниматься чем-нибудь другим. То, что он делает – это дешифровка, сложнейшая дешифровка текстов, - у меня есть подсказка, которую я сам себе записал, но пусть, я не буду зачитывать названия – это работы Крюкова конца девяностых годов, 2001 года. Дешифровка текстов и на этом основании большие, очень серьезные культурологические построения. И вдруг – параллельное с этим занятие – серьезная, глубокая книга о русской литературе. Вот это сочетание было для меня удивительным. И мне очень приятно, что вы откликнулись на приглашение на эту встречу.
Есть еще одна объединяющая, надеюсь, нас вещь: наверное, я должен был бы с этого начать. Сергей Георгиевич, в Ваше отсутствие мы Вас поздравили на Ученом совете с Вашей годовщиной, и нам очень приятно, что Вы присутствуете здесь с нами в эти юбилейные дни. Восемьдесят лет Сергею Георгиевичу исполнилось… Институт гордится тем, что в его стенах трудится С.Г. Бочаров, и мы все надеемся, что это еще долго будет так.
Теперь передаю бразды правления хозяйке сегодняшнего заседания.
Т.А. Касаткина: Здравствуйте, дорогие коллеги. Когда Александр Борисович Куделин предложил мне провести обсуждение этой книги, я совсем к тому моменту не была знакома с автором и его работами. Александр Борисович сказал: я ни на чем не настаиваю, вот книжка, и если вы захотите, то мы это сделаем. И я, прочтя буквально десять страниц этой книжки, поняла, что мы это сделаем обязательно. Потому что очень редко сейчас встречаются книги, о которых можно было бы столько говорить с таких разных точек зрения.
Здесь, действительно, очень много всего.
И поэтому я хочу попросить прощения у тех, кому я твердо обещала отреферировать книгу в начале нашего заседания – я осознаю, что не смогу выполнить взятые на себя обязательства.
Дело в том, что эта книга каждой своей страницей взывает к со-мыслию, и это, наверное, главное и великое ее достоинство. И я уже совершенно не в состоянии сейчас до конца отделить мысли автора от своих, от тех мыслей, которые пришли ко мне благодаря мыслям автора. И в каком-то смысле я думаю, что этого и не нужно, потому что все настоящее, истинное существует, отдаваясь безвозвратно и безвозмездно, и тем получая свое приращение. И я не знаю способов оградить настоящее от такого существования каким бы то ни было авторским правом. Поэтому все, что я буду говорить – это уже синтез нас. Это мое прочтение Крюкова, это тот автор, который, наверное, у каждого все равно будет своим.
Одной из главных идей сегодняшнего заседания было – собрать людей, с которыми автор в своей книге собеседует. Это три человека – Сергей Георгиевич Бочаров, Леонид Владимирович Карасев и Владимир Карлович Кантор. Наверное, им я дам возможность высказаться в первую очередь, за исключением – по его просьбе – Владимира Карловича, который хочет говорить позже. Дальше будут говорить люди, которые могут судить об авторе не как его собеседники, с которыми он разговаривает, а как те, кто читал его книги.
Но, хоть отчасти выполняя взятое на себя обязательство, я вначале все-таки скажу несколько слов о том, что у меня получилось в результате такого сосуществования – моего и Крюкова.
Предисловие автора чревато – и это слово, «чревато», автором чтимо – постановкой двух совершенно разных проблем. Первая проблема – это проблема Гоголя как корня мысли и образов Достоевского, начинающаяся с констатации странного отношения Достоевского к Гоголю на протяжении всего творчества Достоевского. Даже сама эта констатация заслуживает огромного внимания, потому что не всегда она принимается исследователями в расчет в должном объеме. И вторая проблема, которая ставится тут же в предисловии – это проблема концептов дела и половины в «Братьях Карамазовых».
Подверстав вторую проблему к первой, автор почти ее уничтожил. Во всяком случае, свел почти исключительно к гоголевским аллюзиям, стоящим за этими концептами. А между тем уже за самую постановку – первоначальную постановку – этой проблемы книга заслуживала бы внимания.
Достоевский ведь вообще пишет свою последнюю книгу концептами. В «Братьях Карамазовых» есть камень, есть кубок, содержимое которого меняется от коньячка до ананасного компота, и много еще чего. Создается какой-то особый язык Достоевского, но вряд ли он прочитывается через Гоголя. Хотя свои корни этот язык, безусловно, имеет в способности Гоголя, склонности Гоголя из любой вещи творить концепт – чего стоит одна шинель! Да и из любого лица творить концепт. Достоевский, в частности, вскрывает такое концентрированное присутствие идеи в лице поручика Пирогова. Но Достоевский вообще-то умел это делать не только с Гоголем. Он о герое Лермонтова, («Маскарад»), напишет: «Колоссальное лицо, получившее от кого-то когда-то пощечину и удалившееся на тридцать лет в пустыню обдумывать мщение». То есть тут не только специфика гоголевского письма, а отчасти (и от очень большой части!) еще и глаз Достоевского.
Ну и конечно, Гоголь приворожил Достоевского тем, что сам раскрывал эти концепты, которые в других случаях открывались только специфически настроенному глазу. И гоголевское желание, которое описано так: «сжимать все в малообъемный фокус, и двумя-тремя яркими чертами, чаще даже одним эпитетом, обозначить вдруг целое событие или народ»[3] (с. 20), - и есть желание создавать эти самые концепты, то есть свернуть все в деталь, способную потом к разворачиванию этого всего – как в тексте, так и в сознании читателя. Гоголь, как подчеркивает Крюков, - зрящий – вот так специфически, собирая все в одно, зрящий художник. На самом деле и Достоевский – такой же. И то, что мы после Бахтина воспринимаем его как слышащего по преимуществу – есть роковая ошибка нашего восприятия.
Большая заслуга Крюкова в том, что он связывает Достоевского и Гоголя как видящих.
При этом Гоголь одновременно создает – автор нам это показывает – многоочитый мир. Крюков скажет: «все у Гоголя зрит» (с. 21). Но ведь это уже есть открывающая субъектность (а не объектность) всего – что будет в такой силе потом явлено у Достоевского.
Для Гоголя создание произведения – опять же, как будет отмечать автор – есть создание «живой картины» (с. 22) (и при этом – статической картины). Для Достоевского такой тип письма станет художественным методом: создание живой картины для выявления в ней картины изваянной, как писатель, устами старца Зосимы, скажет о соотношении мира и Священного Писания в «Братьях Карамазовых».
И вот тут можно было бы предъявить существенную претензию к тексту Крюкова – ведь возможно не только Достоевского объяснять Гоголем, но попробовать и Гоголя объяснить Достоевским. И может быть, в каком-то смысле, даже с большим успехом. Но Крюков, пораженный и привороженный Гоголем, никогда не пытается прочитать Гоголя через Достоевского. И это, на мой взгляд, главная слабость книги. Потому что очень часто гоголевская составляющая, в интерпретации Крюкова, оказывается в тексте Достоевского самодостаточной и самодовлеющей. И зачем эта составляющая понадобилась самому Достоевскому, оказывается, мягко говоря, не до конца проясненным. Но автору уже претензий не предъявишь, и, наверное, теперь уже наша задача – найти объяснение тому, что им найдено и открыто.
Так вот, у Достоевского есть потрясающие слова в «Братьях Карамазовых», которые многое проявляют, делают очевидным. Это слова старца Зосимы: «Что за книга это Священное Писание, какое чудо и какая сила, данные с нею человеку! Точно изваяние мира и человека и характеров человеческих, и названо все и указано на веки веков. И сколько тайн разрешенных и откровенных» (14, 265; курсив в цитатах – выделено мной. – Т.К.). Вот это изваяние Достоевского – оно способно было бы вскрыть то, что происходит для Гоголя в этих статических сценах, в этой застывшести. «В этой мысли, - пишет Крюков, - ставшей для Гоголя навязчивой, интересен больше всего момент двоякого радикализма. Художнику слова предписывается рисовать обязательно самое жизнь, самое движение жизни, но так, чтобы обрисовка и образ оказывались непременно “застывшими” и “неподвижными”. Это не отвлеченная декларация, тут мы имеем дело с приемом, который вкоренен в само художественное ощущение писателя» (с. 22).
Не правда ли, цитата из «Братьев Карамазовых» сильно комментирует наблюдение Крюкова? И позволяет увидеть в раннем Гоголе то стремление, которое с очевидностью проявилось в нем лишь в пору «Выбранных мест...»? То есть – стремление создавать священные тексты.
Розанов, как вспомнит Крюков, отмечает обостренное гоголевское чувство «скульптурности наружных форм, движений, обликов, положений» (с. 23). Сам Крюков отмечает еще неразличимость «действительного и воображаемого (автору и его героям все постоянно кажется)» (с. 23).То есть отмечает, что сквозь очевидные (в буквальном смысле) формы у Гоголя вечно прорывается такое же – но неочевидное. Что-то, что могло бы быть воплощено в тех же самых формах, но что мы традиционно в этих формах не видим и не схватываем.
С этой точки зрения безмерно интересен «Двойник» Достоевского как ответ на «Нос» Гоголя. Но ведь здесь надо было вскрыть то, что Гоголь говорит в «Носе» так, как это смог прочитать и увидеть Достоевский. Достоевский ведь воспринял «Нос» - и это видно именно при анализе «Двойника» - как сказание о грехопадении, как сказание об отпадении части от целого. И обратил внимание на то, что Гоголь констатировал очень убедительно: в этой ситуации почему-то тоскует как раз целое, а не часть. Что целое стремится вернуть себе часть, которая как раз прекрасно чувствует себя в отрыве от целого и даже готова совсем подменить собой это целое...
В этой шутке, в этом смеховом, казалось бы, эпизоде, открылась история первоначального отпадения человека от полноты Господней и поисков Богом (буквально как майор Ковалев, бегающий за носом) – человека.
Но что же делает Достоевский в «Двойнике»? Достоевский, так же как он первоначально в «Бедных людях» переговаривает «Шинель» (об этом только ленивый не писал – как шинель становится Варенькой), переговаривает «Нос» в «Двойнике». Но только у него часть тела становится вторым; другим «я»; она становится – двойником. Она становится тем, что как ты, но на самом деле даже гораздо привлекательнее, заманчивее, соблазнительнее, чем ты. Тем, о ком мечтают. Тем, кто воплощает то, что мечталось бы видеть в себе. И дальше происходит разрыв и наступает бесконечная тоска, но тоска уже не по своей части и не механическое стремление вернуть эту часть, а тоска по своему другому. Через такие переговаривания действительно очень многое открывается в Гоголе. Достоевский, может быть, может читаться именно как толкователь Гоголя в этом смысле. Причем один из самых глубоких толкователей.
«Немая сцена» у Гоголя – и в том самом расширительном смысле, как понимает ее Крюков – это буквально тот момент, когда молния с небес ударила в земной состав, в очевидные формы. Это момент прозрения внутреннего смысла образа и, естественно, его окаменения в этот момент – от удара, который есть не что иное, как перенасыщенность смыслами. Это прозрение сути образа – прозрение возникшего вдруг концепта. Момент создания концепта. Это не «фиксация мертвенной изнанки жизни» (с. 23), как скажет Крюков, – а попытка фиксации ее вечной изнанки. Но, с другой стороны, что правда, то правда: вечное у Гоголя всегда отдает – мертвенным...
Здесь я бы вспомнила замечательную статью Ирины Бенционовны Роднянской о «Женитьбе» Гоголя[4], где она говорит о том, что Гоголь – не тот, кто остается, останавливается в пределах тела человека, а тот, кто остается в пределах тела и души, то есть тот, кто не наделяет человека духом. В человеке Гоголя отсутствует третья составляющая человека. И тогда человек раскрывается… То есть безумная попытка Гоголя, о которой столько говорилось уже тоже, и самыми разными авторами, - попытка восхождения от ада первой части «Мертвых душ» к раю их третьей части – она раскрывается как что-то совершенно другое. Она раскрывается как способность человека представлять собой лишь возможное место для пребывания Духа… или духов. И на мой взгляд, это очень мощное осмысление Гоголя, которое Ирина Бенционовна предложила в свое время, - и очень важное для понимания судеб гоголевского наследства в творчестве рубежа XIX-XX веков.
Отвлекаясь, скажу, что здесь же могли бы получить осмысление гоголевские зияния, сквозняки, пропуски, произведения, оканчивающиеся на полуслове или «пустяком» («Записки сумасшедшего») (с. 53-54), о чем так проникновенно пишет Крюков. Не объясняет ли это тоже Роднянская указанной ею душевностью без духовности? Двусоставностью человека у Гоголя – вместо трехсоставности? Гулящими – а не постоянными, не привязанными к телу духами (они же «кукловоды»). Вспоминается Ремизов с его видением Гоголя, как черта, выгнанного на землю. Значит, Гоголь-то видел, как духи седлают тела и души…
Человек как место пребывания – из которого не знаешь, что выскочит (с. 61). «Ужас знакомого лица» - не потому ли, что оно как раз всего лишь место с самым неожиданным присутствием. Кого можно увидеть в знакомом лице?..
Но у Крюкова мысль идет в ином направлении. Он говорит о «явлениях цепенеющей плоти»: «Перед нами нечто большее, чем описание физиологических аномалий или психологических эксцессов. Очевидно, что речь идет в гораздо большей степени об опыте символическом. Категории описания немых сцен сугубо эмблематичны, как символична и неотвязная тяга сочинителя к непрестанной постановке своих героев на грань их существования. Для тех это становится почти что жизненной нормой, едва ли не рутиной их литературного быта» (с. 24).
Эта постановка героев на грань существования опять-таки открывает нечто очень существенное в том, что, как мы видим, связывает Гоголя и Достоевского и что отнюдь не было проговорено Крюковым. Потому что автор говорит спроста в том смысле, что он Достоевского-то здесь в виду вовсе не имеет. Но для нас, его читателей, очевидно, что постановка героев на грань существования – это в каком-то смысле общее место работ о Достоевском и его героях. И такие неожиданные совпадения и проговорки спроста – человека, еще раз повторю, одержимого в первую очередь Гоголем (Достоевский для него в каком-то смысле только соработник в исследовании Гоголя, Крюков как бы чувствует в Достоевском человека одной с собой страсти – страсти Гоголевской) – эти его проговорки оказываются очень эвристичными и ценными для исследователя Достоевского.
Замечательно у Крюкова осмысление гоголевской темы ревизора и ревизии как ре-визии, то есть перемены видения – в сущности – откровения, когда в результате смены фокуса взгляда в застывшем привычном, открывается вдруг (и не исключено, что именно в силу его застывшести открывается вдруг) нечто совсем иное. Так городничему открываются свиные рыла вместо лиц (с. 28) – лица той плоти, в которую вошел евангельский «легион бесов».
И тут, конечно, снова вспоминается неупоминаемый автором Ремизов с его «Огнем вещей» и с Гоголем, который есть изгнанный на землю черт, перевоплотившийся в человека и увидевший человека так, как именно черт и мог бы его увидеть. Тот черт, который, согласно Ремизову, пожалел кого-то или сделал что-то доброе, за что был изгнан насовсем из ада, из родного места. И эта – тоже неосознаваемая автором – перекличка вдруг начинает неожиданно очень мощно работать. Автор действительно приходит в русистику из совсем другой литературы, и он заново находит очень много вещей и очень много точек, которые были до него обозначены и потом очень часто были забыты. Но эти вновь найденные вещи, или вещи, получающие объяснение в каких-то прежде найденных вещах, о которых неизвестно автору, - это ведь, на самом деле, то, что делает филологическое исследование достоверным. Такие независимые схождения – это ведь способ (и едва ли не единственный) верификации в филологии…
Невозможно не согласиться с Крюковым (когда он пишет о Гоголе, вообще много с чем нельзя не согласиться; хотя есть вещи, с которыми нельзя согласиться, в свою очередь...), что глаз есть орган эротического проникновения, что вообще видение есть познание путем проникновения в скрытые глубины, в общем-то трудноотделимое от того самого познания, когда «познал Адам Еву, жену свою». Я бы сказала, что глаз в своем пределе – это орган буквального соития, то есть неслиянного и нераздельного бытия автора с мирозданием. Здесь образ писателя как видящего по преимуществу – и для Гоголя и для Достоевского – становится особенно многозначительным, и как-то меняет наше представление о функции литературы, то есть о том, для чего вообще все это пишется.
Но когда Крюков говорит о двойственности образа очей именно как органа познания, и приводит в связи с этим 1-ое послание Иоанна (2, 16): «Ибо все, что в мире, похоть очей, похоть плоти и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего», - то тут можно и должно возразить, хотя это будет возражение всего-навсего того характера, который опережает авторскую мысль. Через несколько страниц автор скажет почти то же самое, что можно было бы сказать уже здесь. Иоанн перечисляет здесь не то, что связывает, но то, что разделяет. Потому что похоть плоти – это то, что останавливает человека, достигшего вожделенной плоти, и мешает проникнуть дальше в человека. Похоть очей – это то, что, по аналогии, останавливает на внешнем образе и не дает созерцающему проникнуть в его глубины, увидеть иное. Гордость житейская – это то, что останавливает человека на понимании себя как деятеля и движителя – и закрывает от него истинного Деятеля и истинного Движителя.
Иначе говоря, апостол обвиняет нас не в ненасытности, о чем говорит Крюков, а как раз в насытимости, в слишком быстрой насытимости, в насытимости слишком малым. В человеческой склонности ограничиваться слишком малым. И как раз это обвинение вряд ли можно предъявить как Гоголю, так и Достоевскому. Но – еще раз – сам Крюков тут же и заговорит о радикальном преображении эротизма в христианстве, и о Боге, «истребовавшем Себе от человека всей любви без остатка, <…> всей полноты взора человеческого» (с. 33).
Но Бог будет «все во всем», и всякая вещь уже не лишена его присутствия. И дело писателя – открывать Бога в вещах, а не устремляться к Богу, минуя и забывая вещи. Об этом вообще-то и «Кана Галилейская» Достоевского – о том, что тот, кто призван Богом, после этого призвания прежде всего бросится на землю и обнимет ее, то есть откажется подниматься туда, покинув, бросив это мироздание. То есть – об уроднении земли и всего, что на ней, при видении лицом к лицу Лика Господня.
И трагедия Гоголя в «Выбранных местах...», на мой взгляд, заключалась в попытке оставить вещи в стороне и начать говорить словами, а не вещами. Присвоить себе прерогативу Господа – у Которого все слова и всё – слова.
Но с другой стороны Крюков очень точно и афористично говорит: «Во времена Адама любой блуд был познанием, а здесь [то есть в новом духе и в новом зрении христианства – Т.К.] всякое познание грозит обернуться “блудом”» (с. 34). И действительно, стремление Гоголя к прямому слову вне посредства художества – то есть вне посредства вещей – более чем объяснимо этим Крюковским афоризмом. Потому что любая вещь может из пути обернуться преградой, из проводника стать идолом, тем самым, которого достигает похоть и на этом останавливается. Может заставить себя любить, себе поклоняться. Не избежали же этого искушения гиганты рубежа XIX-XX веков, спотыкаясь как раз там, ровно на том месте, где Гоголь решил, испугавшись, постелить себе соломки. Он только не учел силы творческого огня, а солома оказалась легковоспламеняющимся материалом…
Я думаю, что, наверное, я здесь закончу. Я и так на пять минут превысила время, которое мне отпущено. Могу это объяснить только тем, что действительно должна была ввести в проблематику книги. После того, как я все это проговорила, я понимаю, что сделала еще гораздо меньше, чем собиралась. То есть я очень сильно увела Крюкова в сторону той проблематики, которая мне покою не дает все время, и последнее и не только последнее. Но еще раз говорю – от собеседования с автором – и вот с этим именно автором – наверное, никуда не денешься. На объективное изложение совершенно не остается никаких способностей человеческих, потому что крюковский ум чрезвычайно вовлекает в сомыслие с собой.
И я хотела бы представить следующее слово Сергею Георгиевичу Бочарову, если только он не против, потому что это один из главных собеседников Крюкова на протяжении всей книги.
С.Г. Бочаров: Это Крюков со мной собеседовал, а я и не знал, и вот только теперь вовлекает он нас в собеседование. Самое ценное в его книге – сильная интуиция, очень простая, но это именно интуиция, что-то большее, чем объективные наблюдения. Два имени – Гоголь и Достоевский, пара классическая, сколько было уже наблюдений, и здесь у автора новые наблюдения, потому что столько гоголевских следов в столь поздней у Достоевского вещи, как «Карамазовы», в голову никому не приходило искать. Но интуиция сверх наблюдений здесь в том чувстве, что Гоголь продолжал присутствовать в Достоевском в размерах необыкновенных, сверх того, как это мы представляем себе. Вроде в самом деле что-то вроде эдипова комплекса, с которым надо было – не только в «Бедных людях» и «Двойнике», но, оказывается, и в последнем романе – справляться. В книге точно сказано, что если Пушкин и Шиллер, которые здесь в «Карамазовых» на виду, со своими клейкими листочками и одой к радости, если они у автора здесь в голове, то скрытый Гоголь здесь у него в печенках – но похоже, что и у автора Крюкова тоже. Вот это – Гоголь в печенках – и есть интуиция книги.
Когда я только начал ее листать, одна фраза, ближе к ее концу, меня покорила. Фраза о Розанове, что он не может быть прав, не противореча самому себе. Это сказано сродни розановской чуткости, и тоже словно бы о себе. По этой части чуткости критической и исследовательской, и просто литературной, замечательно интересная книга. В основной своей большей части, о Достоевском, она куда спокойнее, здесь автор при тексте, бездна подробностей, «мелочевка», - первая гоголевская часть куда взволнованнее, это лирический захлеб какой-то не без примеси визионерства. Гоголевская часть очень личная, и настоящий скрытый в книге ее герой это Гоголь.
Только я бы сказал, что именно оттого, что так лично, в этой части чтение и переживание словно криво по-гоголевски. Гоголевского юмора нет совсем, это страшный Гоголь, наш темный гений. Тот самый Розанов, который очень сказывается у Крюкова, он писал, что Гоголь отнял у человека достоинство, дал искалеченный человеческий образ в «Шинели». Но дальше в слезной и патетической партии этой повести, в лирической ее половине – что он расслышал? Он расслышал «плач художника над своею душой», не над душой несчастного героя, а над своею душой художника, который не может увидеть человека иначе. Скорбь художника о законе своего творчества, плач над изумительною картиною, какую он не может нарисовать иначе. И вот через двадцать лет Эйхенбаум свою знаменитую тоже статью вел прямо по следу розановской, и тоже свое внимание он перевел от героя к художнику, но пафос художника он расслышал совсем противоположным. На розановский плач художника над своею душой он дал свое, обратное о «Шинели»: в ней царит веселящийся и играющий дух самого художника.
Вот два гениальные слова о Гоголе, гениальные оба. И только вместе они – это Гоголь. Этого Гоголя, веселящийся и играющий дух художника, Василий Крюков (вослед Василию Розанову) почти не чувствует, он застыл над итогом, какой подвел Достоевский: «Гоголь гений исполинский, но он ведь и туп как гений». Исполинский гений признан, и как еще признан, но словно придавлен его собственной, гения, тупостью. Немыслимая поэтика образовалась ненароком, нечаянно, не ведал что творил, и ведать лучше бы и не пытался, мог только носом учуивать, так, как Ноздрев ловил своих зайцев. «Никакого смысла, кроме стиля» - говорится о Гоголе. Но вот я читаю в той же «Шинели» образчик гоголевского стиля, и читаю его же как фразу бездонного смысла – о том, как чиновник-мертвец в фантастическом эпилоге сдирал «со всех плеч, не разбирая чина и звания, всякие шинели на кошках, на бобрах <…> - словом, всякого рода меха и кожи, какие только придумали люди для прикрытия собственной».
Фраза, я повторю, бездонного смысла, сразу снимающая другую волшебную фразу о тонких различиях между куницей и кошкой, даже лучшей. Все эти различия вдруг теряют силу перед основным, так сказать, голым фактом равенства всех под всякого рода мехами и кожами. Все уравнены скрытой под ними собственной кожей каждого. Равенство, установленное единым для всех предвечным рождением и для всех единою смертью. Акакий Акакиевич для того, похоже, и прошел свое грехопадение и вступил на путь приобщения к миру мнимых значений (пиком его и была виртуозная фраза про куницу и кошку), чтобы обрести основание для своего загробного страшного суда над этим миром, в том числе над огромным миром одежды, комфорта и моды (а известно, что Гоголь знал в этом толк). А что загробное приключение здесь есть суд, нам скажет новозаветное параллельное место, где речь идет о последнем суде: «Только бы нам и одетым не оказаться нагими» (2 Кор. 5, 3).
Никакого смысла, кроме стиля? Но Крюков, как им описанный Розанов, может быть прав, только противореча себе. Потому что именно такова интуиция, о которой я и хочу сказать и очень которую принимаю, что магистральный путь словесности нашей шел через смыслы, запрятанные в стиле Гоголя, к смыслам Достоевского, через смыслы к смыслам. Мы давно привыкли читать Достоевского через Гоголя, попробуем наоборот прочитать, как Татьяна Александровна нам предлагает. Я когда-то осмелился написать про страшное дело Гоголя в литературе - деформацию, разъятие человеческого образа. Перекошенный образ, какой оставил нам Гоголь, и Достоевский должен был его восстанавливать. Но это страшное дело было и великим творческим вопросом к литературе. Болезненная была операция, но по новозаветной модели произведенная. Гоголь первый у нас разъял человеческий образ на человека внешнего и внутреннего по модели того послания Павла, которое только что не случайно по случаю Гоголя же было помянуто, - что если внешний наш человек и тлеет (мертвые души), то внутренний обновляется со дна на день (2 Кор. 4, 16).
То же и Иннокентий Анненский писал о Гоголе, что в человеке, во всяком, слиты два человека – внешний, осязательный и тайный, сумеречный. Гоголь оторвал одного от другого, развил типическую телесность, так что первый отвечал теперь за обоих. Так, нос стал отвечать за все лицо, вмещающее и нос и душу. Гипертрофия носа должна была наводить на мысль о душе. По особой вывернутой гоголевской логике, которую он любил описывать и по которой надо видеть наоборот, и картина внешнего человека должна наводить на умопостигаемого человека внутреннего, сумеречного, тайного. Т.е. на «человека в человеке», того самого, открытого Достоевским, человека, какой скрывается в человеке.
Только ведь этот человек в человеке был открыт по гоголевскому следу, по следу гоголевского болезненного и творческого раздвоения в человеческом образе. Я читал недавно очень интересный этюд Владимира Алексеевича Губайловского, где он на пушкинских «Бесах» рассматривает такой особый случай инверсии. Так и гоголевскую картину человека надо вывернуть, как перчатку, на лицевую сторону. Так и героев поэмы он собирался вывернуть в следующих томах налицо. Он ведь построить другие тома хотел по модели поэмы Данте. Там Вергилию с Данте, чтобы выйти из ада на гору Чистилища, надо произвести кульбит, какой вызывает для объяснения трудности у комментаторов, так что и сам Флоренский в траектории их движения специально математически разбирался. Им пришлось в абсолютной точке низа перевернуться вниз головой, чтобы дальнейшее нисхождение в ад обратить в восхождение на другую гору: «Но я в той точке сделал поворот, Где гнет всех грузов отовсюду слился».
Гоголю тоже надо было выйти на свою гору чистилища, а для этого сделать кульбит. То есть сделать свой поворот в точке низа. Это ему не удалось, зато удалось продвинуть понимание человека дальше в литературе после себя, удалось напророчить человека в человеке у Достоевского. Вот и через Достоевского можно обратно увидеть Гоголя и оценить его поворот на магистральном нашем литературном пути – и это событие в нашей духовной истории воистину переоценить невозможно.
Автор обсуждаемой книги оперирует нестандартными категориями в духе несколько постмодерна, такова заглавная категория – след: «След птицы тройки…» След как смутная отметина, неразборчивый отпечаток. Удивительно, конечно, узнать, что в «Братьях Карамазовых» Гоголь так наследил. Что своей подпольной интертекстуальности столько оставил и что столько его здесь в печенках. Но ведь и правда, откуда и почему здесь Скотопригоньевск – не от гоголевских ли Весьёгонска и Царевококшайска? Сейчас не принято признавать присутствие Гоголя в Достоевском в таком объеме, особенно в Достоевском позднем, последнем, скорее хотят его возводить прямо к Пушкину мимо Гоголя. Но мне интуиция книги близка.
Наконец, по-крупному – «Мертвые души» и «Братья Карамазовы» в общей картине литературы. Прямое сближение двух колоссов на расстоянии. Оба остались незавершенными, без второго тома или второго романа. Но по судьбе вышло так, что оба остались вполне завершенными и самодостаточными для нас. Только можем гадать, что бы стало с Иваном и Митей (в существующем же романе хорошо у Крюкова, как они пребывают «спиной» друг к другу), а главное с Алешей, и можем ли мы поверить, что пойдет в террористы… Автору сдается, что был бы совсем другой роман. И снова Розанов, что тайну «Карамазовых» Достоевский унес в могилу – плагиат из Достоевского же о Пушкине. Гоголь тоже свое унес в могилу, трое все унесли в могилу – магистральный путь в главных наших трех именах (хотя остроумно Синявский о Гоголе, что невозможно поверить, что «Мертвые души» как полный замысел не существуют нигде, небось хранятся где-нибудь в сейфе до Страшного суда).
Литературоведение ли Крюков, каков статус текста? Но чистого литературоведения не существует или это не интересно. Литературоведение это два полюса: один – история литературы, но в ней литература не главное, и истории, может быть, там больше, чем самой литературы. Полюс другой – литературоведение авторское, личное, со своим нажимом. Это тот случай, Может быть, это то самое, что Леонид Владимирович называет своей онтологической поэтикой.
Л.В.Карасев: Как я понял, у нас получаются какие-то фрагменты и отдельные соображения по поводу книги Василия Крюкова. Скажу о том, что имеет прямое отношение и к только что выступавшему Сергею Георгиевичу и ко мне. По сути, книга начинается с того, что Крюков берет статью Бочарова «Красавица мира» и мою статью «Гоголь и онтологический вопрос» и пытается нас с Сергеем Георгиевичем не то чтобы столкнуть, но, как-то противопоставить. В первом случае, Крюкова привлекает мысль о том, что гоголевские персонажи живут, существуют «на пределе» (мысль, идущая от Розанова и развитая Сергеем Георгиевичем), в другом, - Крюков берет в оборот понятие «онтологического минимума», которое я использовал не только по отношению к гоголевским героям, но и при разборах сочинений Достоевского и Толстого. Речь идет об анализе ситуаций, возникающих по ходу развития сюжета, когда возникают моменты равновозможных движений и в ту и в другую сторону, когда персонаж зависает на точке онтологического минимума – может быть, что-то близкое пригожинской «точке бифуркации». В такие моменты герой действительно онтологически минимален. Он может совершить все, что угодно, его выбор – весь мир, все возможное в этом мире. Крюков полагает, что оба подхода скорее затемняют Гоголя, нежели раскрывают его, хотя, как он пишет, и в том и в другом случае есть немало продуктивных мест.
Ну, а чего еще можно желать! Такая вещь интересная – литературоведение. По сути, это ведь искусство интерпретации, герменевтика в широком смысле слова, так, что можно многие вещи (слава Богу, не все) по-разному повернуть. С какой точки зрения посмотрит человек на текст, то в нем и увидит. С позиции Крюкова, вернее, с позиции захваченности определенной мыслью, мой подход и подход Сергея Георгиевича можно противопоставить, с моей же точки зрения, это не так, из чего не следует, что Крюков не имеет права распоряжаться материалом так, как он это делает, исходя из собственной исследовательской логики. Известно, что тот, у кого имеется много собственных мыслей, с трудом воспринимает мысли другого человека. Или же разворачивает их таким образом, которой ему представляется более естественным, органичным. Так, собственно, и возникает феномен трансформирующей интерпретации, когда возникает концепт, имеющий мало общего с тем, что его породило, но который в то же время способен стать почвой для новых интерпретаций и продуктивных решений.
Книга Крюкова – противоречивая, очень неровная; это мой, естественно, субъективный взгляд, который не означает, что предложенные конструкции не имеют ценности. Я вообще считаю, что книги, в которых есть неожиданные ходы мысли, парадоксальные решения, не могут быть иными. Они просто обязаны быть противоречивыми и неровными. Это совершенно нормально, если, конечно, не относиться к тому, что пишешь, как последнему и окончательному слову, не предполагающему никаких возражений. В этом смысле я могу простить автору все слабые места за те несколько «избранных мест», которые собственно и будут жить, давая жизнь все новым интерпретациям текста, в данном случае, гоголевского текста. Другое дело, что здесь необходимо чувство меры, сочувственного понимания тех ограничений, которые наложены на нас самой природой гуманитарного знания. Если Сергей Сергеевич Аверинцев иногда заканчивал лекцию или доклад словами: «А, в общем-то, может быть, все и по-другому», - то это не значит, что он обесценивал все только что прозвучавшее. Здесь, скорее, есть то самое понимание размытости, неоднозначности вещей, которые, как нам хотелось бы, были совершенно определенными и четкими. За этим стоит понимание того, что все сказанное достаточно условно, и что смысл не есть твое личное достояние, он есть общее достояние, и в зависимости от того, с какими другими смыслами он соприкасается, он приобретает все новые и новые очертания.
Книга Крюкова обладает названным свойством в полной мере. Она побуждает читателя к постоянной со-деятельности, к домысливанию или переосмыслению того, что говорит автор. Так, например, я согласен с тем, что Гоголь есть писатель не идейный, а, скорее, символический – этот тезис Крюкова я разделяю полностью. Я согласен с тем, что его писательство по большей мере есть даже не соединение слов, - хотя все это делается с помощью слов – а что это своего рода словесная живопись, то есть ряд портретов, образов, скульптур, которые вызывают в нас сочувствие или отталкивают
В книге представлена стратегия и тактика интертекстуального подхода со всеми его плюсами и минусами. Интертекст вещь соблазнительная и коварная, он часто дает иллюзию решения, хотя на самом деле никакого решения и нет. Такого рода исследование перспективно до какой-то грани, до какого-то момента, на котором следует остановиться, потому что дальше начинается дурная бесконечность, а именно выяснение того, кто у кого что позаимствовал. Если быть честным, то надо тянуть цепочку до конца, то есть, до античности и мифологии, что практически не возможно. Поэтому чаще всего «интертекстолог» успокаивается, найдя у Гоголя «след» из Гофмана, или Сковороды и бескомпромиссно показывает пальцем, как Вий, – вот, это взято оттуда-то. И на этом успокаивается. А у того автора, откуда это взято? Я уж не говорю о том, что существуют типологически сходные ситуации, в которых возникает самозарождение похожих ситуаций, идей, образов. Как писал М. Мерло-Понти, у Родена есть фрагменты, которые совпадают с фрагментами Жермена Ришье, однако это происходит не потому, что один скульптор что-то заимствовал у другого, а потому что они оба имели дело с текстурой Бытия, то есть, с одним и тем же набором форм, глубин, поверхностей и пр.
Что касается интертекстуальных усилий Крюкова, то их можно оценить двояко. Тот большой труд, который автор проделал в сопоставлении гоголевского текста с текстом «Братьев Карамазовых» Достоевского – продуктивен и полезен; как никогда раньше стало видно, как перекликаются Гоголь и Достоевский, как многое в «Братьях Карамазовых» идет от Гоголя. В то же время, к очень многим фрагментам нужно подходить более осторожно, поскольку они скорее относятся к ряду типически сходных ситуаций, о которых мы только что говорили. Например, когда мы говорим о водных мотивах у Гоголя и Достоевского, об их схожести, то это, скорее всего, относится к области фундаментального человеческого лексикона, к мифопоэтическим и антропологическим основаниям. Или когда говорится о сходном отношении к пресмыкающимся, змеям, то это тоже возникает не потому, что на Достоевского повлиял Гоголь, а потому что это связано с общечеловеческим отношением к змеям. А когда, допустим, идет речь об Аделаиде Ивановне в «Братьях Карамазовых» и у Гоголя – тут действительно попадание точное, видно, что это реальная интертекстуальная практика, которая приносит свои результаты.
Вообще книга Крюкова, как это обычно и бывает с талантливыми работами, заставляет говорить не только о том, чему она непосредственно посвящена, но и об общих вопросах, которые всплывают сами собой. Например, в очередной раз стало видно, как каждое новое поколение исследователей начинает свою работу не то чтобы с нуля, но все же не учитывая в должной мере то, что делалось ранее (справедливости ради могу отнести это и к себе). Причины могут быть разные, в том числе и объективные, продиктованные спецификой советской истории, однако трудно отделаться от ощущения, что одна и та же работа каждый раз делается заново. О Гоголе пишут и размышляют давно, можно сказать, еще с самих гоголевских времен. Иначе говоря, те вопросы, которые возникают в связи с его сочинениями, имеют уже, по крайней мере, столетнюю историю. И это касается и «идеологии», и связанной с ней «поэтики», включая сюда и темы эроса, зрения, телесности, психологической раздвоенности и пр. Очень много вещей есть в книге Крюкова, о которых уже раньше говорили, писали, но потом все это как-то благополучно забывалось и заново открывалось. Может быть, это естественный процесс, и так живет не только литературоведение, но и другие гуманитарные дисциплины. Ведь наука состоит из реальных людей, которые имеют какие-то свои амбиции, начинают работать, отталкиваться от чего-то, огораживать собственные территории терминологически или методологически, невольно, может быть, отодвигать от себя то, что было сделано до них в этом направлении. Сейчас, например, когда была опубликована книга профессора Ермакова, его работы двадцатых-тридцатых годов о Гоголе и Достоевском, стало видно, как много из современного литературоведения уже присутствовало в этой книге Ермакова (книга Крюкова это только подтверждает). Как много и точно было сказано о Гоголе Розановым, как много существенных вещей было прописано в книге Мережковского «Гоголь: религия, жизнь, творчество». Одни и те же вопросы – духовное и телесное, верх и низ, специфика гоголевского зрения: что оно – разрушает или присваивает, преображает или оплодотворяет. Статья Крюкова, опубликованная еще в середине 90-х в журнале «Вопросы философии» (с нее же по сути и начинается и книга) называлась «Гоголя зрящий глаз». Главная тема – несогласие Крюкова с моей позицией, а именно с тем, что гоголевский взгляд не эротический, а присваивающий. Я не хочу сказать, что если этот взгляд взять как эротический, то ничего путного не построишь. Дело в другом, - в тенденции присвоения, овладения, которая в этом взгляде присутствует, но может быть обозначена по-разному. Например, если мы скажем, что это взгляд, поглощающий мир, поедающий его в прямом смысле этого слова, то выйдет совсем другая картина. Об этом я довольно подробно писал в работе «Nervoso Fasciculeso. О “внутреннем” содержании гоголевской прозы», и этот текст дался мне не просто, поскольку пришлось писать о предмете довольно напряженном. В начале гоголевского текста (это может быть начало повести, главы, эпизода) мы видим картину блеска и сияния – золото, серебро, все блещет и все поглощается, поедается гоголевским взглядом (лексика поглощения представлена вполне явно). А дальше, в последующей, и, так сказать, естественной перспективе, переваривание увиденного-съеденного и избавление от переваренного – и все это в динамике развития сюжета в соответствующем ряде метафор и уподоблений (вспомним хотя бы «остатки и выброски», превращающиеся в золото во втором томе «Мертвых душ»).
Так начинается героическая борьба Гоголя по спасению финала; сохраняя его структуру, он вместе с тем пытается скрасить его, насколько это возможно. Я говорю об этом, чтобы показать насколько далеко и совсем в другую сторону можно уйти, если принять за основу тезис не об эротическом взгляде Гоголя, а о взгляде поглощающем.
Дальше – больше. От специфики зрения-поглощения – к общим установкам, к переосмыслению самого феномена человеческого тела, способа его функционирования. С одной стороны, Гоголь не хочет мириться с естественным порядком вещей, он борется с ним, это видно из ряда его сочинений, из того, как он пытается, как я уже говорил, спасти свои финалы, которые есть смерть и разложение. А с другой стороны, есть гоголевская убежденность в том, что естественный порядок заведен Богом, и, следовательно, выступать против него – значит, выступать против Бога. У Гоголя это вещи равносильные. И та, которая его тянет к земле, и та, которая тянет его к Небу. Отсюда принципиальная двойственность Гоголя («Во мне две природы»), и отсюда, как мне кажется, и подлинное начало русской литературы в собственном смысле слова, ее двойственность и метание между телом и душой. Пушкин, конечно, тоже в начале. Но он столько же в Европе, сколько и в России. За ним – твердая традиция, понятно, как он возникает. А Гоголь, который взялся как будто бы ниоткуда, из ничего буквально, без всякой традиции, - он начинает эту «негативную антропологию», этот процесс саморасщепления, который постепенно разворачивается, набирает обороты, из художества превращается в философскую идею и, в конце концов, завершается русской революцией и мавзолеем на Красной площади.
Возвращаясь к книге Крюкова, хочу сказать, что она из числа тех, что показывают, как литература авторов может быть увидена как единый внеличностный процесс. То есть, конечно, автора, личность никуда не денешь, через него совершается литературное дело. Но при этом мы часто не замечаем того, что идеи хотя и живут в конкретных умах, но это именно идеи, то есть, некие самостоятельные сущности. У них своя жизнь, и умы писателей для них – средство, возможность сбыться, состояться в слове. Через Гоголя, через Достоевского, через Толстого и Чехова движется мысль, сцепление мыслей, которые развиваются, трансформируются, осознают себя и в этом смысле живут своей собственной жизнью. Крюков с его подробным анализом текстов Гоголя и Достоевского, их дословного сравнения как раз и показывает, как одно вырастает из другого, как Достоевский «восстанавливает» цельного человека из расщепленного на «внутреннего» и «внешнего» человека Гоголя. А потом, добавлю от себя, появляется Толстой, который чутко читает Достоевского, как бы он к нему не относился. И появляется морализаторство, уверенность в том, что надо так и так. И, наконец, Чехов, который прочитывает всех, в том числе и Толстого, и является уже чеховская надмирная позиция, отмеченная не то чтобы равнодушием – но, скорее, глубинным пониманием того, что все равно жизнь будет идти по одному и тому же кругу, и ничего другого не будет.
Книга Крюкова (хотя в ней идет речь только о Гоголе и Достоевском) – одна из тех книг, по прочтении которой становится понятно, что такой процесс существует, хотим мы этого или нет. Что есть надперсональная литература, что есть люди, которые своим умом, своим талантом, органичностью способны развивать не принадлежащие им мысли, работать, так сказать, с «общим достоянием» культуры. В этом смысле и книга Крюкова встраивается в этот надперсональный ряд, проявляя, варьируя, развивая тот набор идей, который не дает русской литературе покоя на протяжении всего ее, начиная с Гоголя, существования.
В книге Крюкова есть места, несущие в себе резерв смысла, который несомненно будет востребован в будущем. Как говорится, напрасно сделанной работы не бывает. В данном же случае это – работа, которая сделана чутким, нервным человеком, преувеличивающим, увлекающимся, но несомненно талантливым. Эта книга, я думаю, будет работать долго. И в смысле высказанных в ней идей, и в смысле собранного материала, за которым приходится постоянно обращаться, когда нужно найти что-то по интересующей тебя теме. Так работают «Сюжет Гоголя» М. Вайскопфа, «Психоанализ литературы» Ермакова, другие книги, которые не то что бы нужно все время цитировать, но в которых содержится много фактов, наблюдений, живых смысловых образований, которые рождают мысль, заставляют думать дальше, придумывать что-то еще. Вот такое у меня впечатление об этой книге. Конечно, сказать можно гораздо больше, по каждой главе очень подробно, но это заняло бы много времени. Спасибо.
Н.Б.Иванова: Я прошу прощения за, как выражаются сейчас, свой дискурс. Потому что у меня дискурс совсем другой, я все-таки литературный критик прежде всего, а литературовед уже во вторую очередь. И вот о чем я подумала. Как же это было совсем недавно, когда у русской литературы совсем не было никаких юбилеев. Представьте себе, какая она молодая! В 1809 году не было никаких юбилеев, нечего было праздновать – как же это было скучно жить. А теперь накоплен такой капитал литературы, что не только каждый год, не только каждый месяц – у меня такое ощущение, что каждую неделю возможен юбилей. Писателя – дата смерти и рождения. Его книг. Его отдельных произведений. Споров, постановлений по поводу этих отдельных произведений. Уничтожения того или иного текста – и так далее, и тому подобное. В общем, это богатство, совершенно невероятное, одновременно образует и то, что, может быть, можно назвать (замечательное у Достоевского есть выражение, у одного из его героев) – «литературное воровство». Но на самом деле я имею в виду не литературное воровство, как говорит один его герой другому, а это то, что можно обозначить как — литературное бессознательное. И в этом литературном бессознательном (и одновременно в «сознательном») существует огромная тема: Гоголь и Достоевский.
В книге Василия Крюкова внимание сосредоточено прежде всего на «Братьях Карамазовых», на позднем Достоевском. Внимание других исследователей было сосредоточено как раз на влиянии Гоголя на раннего Достоевского, на полемике раннего Достоевского с Гоголем. В книге Крюкова обозначены точки возможного спора, расхождения, скажем так, «срединного» Достоевского с Гоголем. Чем больше я об этом думала, тем больше хочется размышлять о теме присутствия Гоголя в «Бесах», мне кажется, что может получится очень интересная работа. В общем, книга Василия Крюкова провоцирует на огромное количество возможностей. Выражаясь современным языком, она креативна, и от нее исходит много смыслов, о которых уже сегодня говорили, или не говорили, но думали и думают, и, я надеюсь, будут думать.
Кроме всего прочего, существует, на мой взгляд, параллелизм чисто жизненный, Гоголя и Достоевского.
Гоголь оказал колоссальнейшее воздействие на Достоевского не только своими текстами, но и своей жизнью, своей смертью, своей биографией.
Я думаю, что если бы не было «Выбранных мест из переписки с друзьями», может быть, не было бы и «Дневника» Достоевского.
Жанровое развитие Гоголя – от повестей к «Выбранным местам» - сопоставимо с жанровым развитием Достоевского. Его страстность, субъективность, его стремление к проповедничеству... иногда это называется стремлением поучать. Параллели такие существуют, потому что параллели между жанровым движением в творческой биографии Пушкина и жанровым движением в творческой биографии Достоевского я не нахожу. Несмотря на то, что перекличек, сопоставлений, полемики много. И в связи с этим слова Сергея Георгиевича Бочарова об интуиции и чуткости Достоевского, по-моему, необыкновенно важны. Интуиция поддержана глубочайшим импринтом судьбы, жизни и творчества Гоголя в судьбе, жизни и творчестве Достоевского.
Образ самого Гоголя, человека и писателя, мучил Достоевского всю жизнь. Он искал разгадку так же, как и мы сегодня ее ищем — разгадку этой жизни и этой смерти. Не только в Фоме Фомиче Опискине мы видим такую смеховую полемику с Гоголем, но чем больше я думаю, тем больше мысль о сочинителях и графоманах у Достоевского на самом деле достаточно часто пересекается с сочинительством и, может быть, иногда графоманством, у самого Гоголя.
Гоголь, жизнь которого прошла между двумя пожарами, между тем, как он сжег свою первую книгу и между тем, как он сжег свою последнюю книгу, - и на самом деле первая книга, конечно же, носила тот самый характер графомании, которая присутствовала как творческое начало во многих и многих персонажах у Достоевского.
И в книге Крюкова эта удивительная перекличка Гоголя и позднего Достоевского сделана на таком микроуровне присутствия Гоголя в Достоевском, в «Братьях Карамазовых», прочитанных так, как это сделал автор книги. Прочтение Достоевского через Гоголя, на самом деле сегодня только начинается. И к книге Крюкова будут обращаться все последующие исследователи этой темы.
Конечно, я тут не могу не поддержать слова господина Карасева о том, что многие мысли повторяются в каждом поколении, может быть, по-новому, переосмысливаются, в том числе и философов, и литературоведов. То, что сказано у Крюкова о статуарности у Гоголя, о изваянности, которая одновременно динамична, во многом присутствует в работах Владимира Николаевича Турбина. Автор этой книги не ссылается на Турбина, но тем не менее, как опять же говорил Владимир Николаевич, мысли никому не принадлежат, они носятся в воздухе. В чем-то я в этой книге, книге Василия Крюкова, находила неакадемичность, турбинскую парадоксальность, склонность к тому, что может нам дать возможность задуматься о том, о чем мы бы никогда не задумались. Например, для меня одно из самых интересных мест в этой книге – это как раз фрагмент о «Великом инквизиторе». Комплекс наблюдений и мыслей, связанный с поздним Достоевским, представлен так, как не был представлен – или, скажем так, был освещен с другого бока ранее. Эта совершенно замечательная вещь о «Ревизоре» и ре-визии, и вообще все, что связано с зрячестью, с зримостью, обращающей очи на автора, художественная реальность или вещь в художественной реальности, многосоставной, многоочитой, обращающая взоры на самого автора. Что это, как не провозвестие полифонизма Достоевского? Это тоже здесь присутствует. Конечно, совершенно неисчерпаемо то, о чем помянул Сергей Георгиевич одним словом – Скотопригоньевск. Это абсолютно гоголевский образ, я уж не говорю обо всей губернии в «Бесах», о губернаторе и губернаторше, «Литературной кадрили», весь этот образ губернского города совершенно немыслим без Гоголя. Превращение реального пространства в литературное – совершенно уникальная способность Гоголя к свертыванию и развертыванию пространства реального в литературное, к тому, что на самом деле произведение концептов из реальности – это, конечно, тоже было развито в том числе и поздним Гоголем.
Здесь шла речь уже о необыкновенно интересных фрагментах, связанных со словом – не только часть третья, «По слову Карамазовых», но там и чисто конкретно «Слова и словечки». Я отметила для себя еще то, каким языком написана эта книга. С одной стороны, это очень вязкий текст, сложный, глубокий. С другой стороны, если представить себе, что будет возможным частотный словарь этого текста, то она написана таким богатым словарем, в том числе не литературоведческим, что это просто по-настоящему удивляет.
Конечно же, можно говорить о многих вещах, которых автор не коснулся и которые не входили в его внутреннюю задачу, но которые, на мой взгляд, упущены. Об упущенных возможностях этой книги. Конечно же, если говорить о Достоевском, в том числе и позднем, и о Гоголе, конечно же, нельзя не говорить о смехе у того и у другого. В книге об этом очень мало. А это тоже, наверное, возможность отдельного исследования.
Такое богатство гениальных, или талантливых, или просто необыкновенно способных людей в русской литературе, что каждая вещь, о которой мы говорим сегодня, называя то или иное произведение у Достоевского, взывает к расширяющемуся пучку смыслов. Так вот, расширяющийся взгляд представлен здесь, в книге Василия Крюкова. Я думаю, что эта книга должна расширять взгляд тех, кем эта она будет прочтена.
И.Б. Роднянская: Я буду говорить об этой книге не столько как исследователь вопросов, в ней поднятых (к размышлениям над которыми я бывала причастна), сколько как прилежный читатель ее. Подхвачу то, что только что отметила Наталья Борисовна. Едва я начала читать, меня поразил язык Василия Крюкова, блистательная свобода этого языка. Он не просто богат и гибок, это – употреблю сленговое словцо – невероятно отвязанный слог. И таков он в книге, которая со всеми основаниями претендует на филологическую научность, а не в эссеистском тексте, каковым, к примеру, является сочинение Терца-Синявского «В тени Гоголя». Вот, читаешь о «Выбранных местах из переписки с друзьями»: «Отчаянное завывание об идеале…» (с. 71). Или: в «Братьях Карамазовых» «прокурор наливается полнотой означения <…> а жена приделывается к нему в виде заочного сюжетного пустячка» (с. 135). Или такой вот афоризм: «Гоголь-художник <…> ощущал подушечками пальцев Адамову глину текста…» (с. 328). На подобную демонстрацию своего стилистического темперамента (при почти всегдашнем попадании в десятку!) вряд ли решился бы кто-то из нас, коллег, даже Сергей Георгиевич с его девизом: «Литературоведение как литература». Особенно эти свойства языка очевидны в разделах о Гоголе; у меня даже сложилось впечатление, что автор потому так мало заинтересован в Гоголе-юмористе (об этом скажу чуть позже), что в отношении гоголевской юмористической фразы выступает не как аналитик, а как индуцированный практик-подражатель, не чурающийся и каламбуров.
Сразу захваченная эти слогом, я стала читать дальше – и тут испытала противоречивые чувства. Передо мной действительно провокативная, налитая смыслами вещь с огромными эвристическими достоинствами, о чем уже было здесь единодушно говорено. Но мои несогласия с этой книгой, боюсь, превышают мои согласия с ней.
Первое, о чем скажу, - техническое исполнение издания, в изъянах которого автор неповинен (возможно, он даже не успел вчитаться в корректуру, - а ни редактор, ни корректор в выходных данных не названы); но то, что с этим произошло, для меня символично. Треть книги занимают Приложения – подробнейшая сопоставительная часть, где на конкретных извлечениях из текстов обоих писателей вынюхивается тот самый «след птицы-тройки» в последнем романе Достоевского. Эта часть книги, несомненно, была для автора заветной, но его замысел оказался сокрушен тем, что где-то с середины основного текста отсылки от него к Приложениям оказались перепутаны настолько, что получилось какое-то «мартобря» - следа не отыщешь. Этот горестный прокол бросает, повторю, символическую тень на самый метод – как трещина в фундаменте исследования. Многие, я успела заметить, читали книгу, не слишком справляясь с Приложениями и веря авторской компаративистике на слово. Между тем убедительность ее очень часто невысока. По моей грубой прикидке, убеждают процентов десять, и эта доля чрезвычайно ценна. Это яркие примеры додумывания Достоевским Гоголя и полемики с ним – примеры того, что А. Бем обобщил формулой «Достоевский – гениальный читатель» (кстати, ни эта известнейшая статья Бема, ни работа И. Альтмана над именами и фамилиями у Достоевского в прикнижной библиографии автором не указаны). Еще процентов двадцать найденных сходств и перекличек приходится на то, что задержалось в общей читательской памяти современников как провербиальные речения, как почти анонимные присловья, всегда бытующие после таких великих создателей текстов, как Грибоедов, Гоголь, Зощенко, Булгаков, даже Ильф и Петров. Тогда «говорили Гоголем», как нынче уже два или три поколения говорят словечками из «Мастера и Маргариты», - об этом по словцу расхватанном Гоголе есть свидетельства и в переписке Белинского. Такое неосознанное участие Достоевского, вместе с другими, в гоголевском тексте не есть рефлексия над ним. Ну а остальные семьдесят, скажем, процентов я отношу к разряду недоразумений, связанных с соблазнами компьютерного поисковика. Задаваемое слово выделялось, конечно, интуитивно и не сказать, чтобы бессмысленно, но учитываемые «отзывы» на него ассимилировались слишком механически, без учета общекультурного контекста. Ясное дело, например, что источник интереса Достоевского к Апокалипсису – вопрос типологии, а не сторонних влияний (вспомним его толкования Лебедевым в «Идиоте»): оба писателя по своему складу не могли пройти мимо этого провоцирующего священного текста. Вот еще выбранные наугад примеры натяжек, порой даже смешных. У Гоголя «дантист» - ироническая метафора зубодробителя. Но слово подхвачено и сопоставлено… с траченным молью паном, поляком-дантистом в Мокром. Доктор Герценштубе из «Братьев Карамазовых» имеет адресацию скорее к доктору Гаазу, но никак не к лекарю Гибнеру из «Ревизора», в говорящей фамилии которого нет ничего «сердечного». «Перекошенная» фигура Ивана Карамазова (одно плечо выше другого – отдаленная ассоциация с архетипической хромотой) – ну не может, просто не может иметь что-то общее с асимметрией Шпонькиной брички. А то обстоятельство, что «трапеза в монастыре носит сильно выраженный рыбный уклон» (какая же еще может быть гостевая трапеза в православном монастыре, где мяса вообще не положено?), не стоит многозначительно сопоставлять со стерляжьей ухой из «Мертвых душ», ни тем более с евангельскими эпизодами рыбной ловли. Правда, автор делает оговорку, что Гоголь сидит у Достоевского «в печенках», а не в голове и сердце, и искомый «след» заметней всего в переосмыслении мелких деталей, а не в обрисовке характеров и общих идей. Но как раз в этом кругу масса неадекватных иллюстраций прямо-таки подавляет и обескураживает.
И среди этих произвольных допущений легко могут затеряться находки, отмеченные поразительной перспективой. К их числу отнесу вполне доказанный Крюковым «ответ» Достоевского автору «Выбранных мест…», который дается через старца Зосиму. Или еще: монастырь как конечная точка предполагаемого странствия Чичикова во втором томе «Мертвых душ» - и отправная точка странствий братьев Карамазовых. Но особенно меня увлек параллелизм известного «лирического отступления» в поэме Гоголя, где автор говорит о благостной участи писателя, занятого возвышенным и прекрасным, и незавидной участи комического сочинителя – и, с другой стороны, слов карамазовского черта, жалующегося примерно на те же гонения и определяющего себя как необходимый минус в гармонии мироздания. Не знаю, параллель эта – плод она рефлексии Достоевского над акцентированным местом гоголевской поэмы или не до конца осознанная перекличка, но это огромная мысль, из которой многое следует для понимания драмы Гоголя, который больше всего боялся оказаться невольным союзником черта…
Сергей Георгиевич обмолвился (к сожалению, между делом), что Василий Крюков прошел мимо юмора Гоголя. «Слона-то я и не приметил!» Гоголь – комический писатель столько же, сколько и мистический, то и другое в нем неразрывно. Он весьма рано осознал свой дар высокого комизма не только как природную склонность к «жартам», но как миссию, можно сказать, воспитательную: внушить читателю или зрителю «поворот смеха на самого себя, противу собственного лица». И в этой миссии комического писателя – не был до конца понят ни современниками, ни самим собою, ни, боюсь, потомками вплоть до наших дней. Крюков следует в своей книге четко сложившейся традиции (естественно, не неся за нее полной ответственности), которую проще всего очертить выразительными словами А. Бема: «Жуткий мир гоголевского маскарада, участниками которого являлись не живые лица, а маски, за которыми стоял их гениальный автор и с загадочным бесстрастием где-то за сценой приводил их в движение, не вызывал в Достоевском смеха, а требовал немедленного отклика, вызывал потребность вдохнуть жизнь во все эти подобия людских существ, очеловечить гоголевские миражи чувствами любви и сострадания» (Бем А. Л. Исследования. Письма о литературе. М., 2001, с. 50). Это традиция Страхова, Розанова, Мережковского, к которой сегодня по-своему примыкает Бочаров, а по-своему – Крюков.
Короче, главная мысль книги: «восстановление» Гоголя Достоевским. Гуманизация страшного апокалиптического Гоголя. Можно сказать, спасение отца, предпринятое сыном, сумевшим возместить «экзистенциальную ущербность» гоголевских персонажей. «Пасквильная кривая рожа стала честным лицом, позорная кличка – добрым именем» (с. 344). Так вот, я не могу принять этот ход мысли полностью. Может быть, движение литературы действительно взывало от дела Гоголя, понятого как «страшное», к необходимому противо-делу. Но сам-то Гоголь верил (до поры) в «светлую» природу смеха. И экзистенциальное восстановление человека до полноты духовного облика должно было, по его надеждам, происходить в сердце читателя или зрителя, в качестве смеховой реакции на «негативную антропологию» его созданий. Оно, это «восстановление», добавлю, должно совершаться при чтении Гоголя здесь и сейчас, а не в рассуждении о том, что именно в русской литературе за Гоголем последовало и что в ней от него, ужасного, излечивало. Пусть он здесь и сейчас «давит своими вопросами», ожидая от нас ответа. И разве непосредственная, освободительная радость от комизма, от юмора Гоголя, будь это даже такая печальная вещь, как «Шинель», не разгоняет страх? Благодаря своему всеобъемлющему юмору Гоголь, кстати, гораздо мягче, чем Свифт; в мировой литературе есть вещи куда жутче гоголевского зрения, чуждого радикальной мизантропии. Вообще говоря, апокалиптизм и эсхатологичность Гоголя Крюковым сильно преувеличены. Гоголь как идеолог был (Мочульский прав) создателем социально-эстетической утопии, а утопист по определению противоположен апокалиптику.
Конечно, в «Выбранных местах…» художество Гоголя покинуло (и я даже рада острому неприятию этого сочинения в книге Крюкова, потому что на сегодняшней благостной волне оно отрекомендовано чуть ли не главным достижением писателя). Крюков же совершенно справедливо сочувствует Белинскому, который еще в «Мертвых душах» заметил и предугадал эти пустоши дидактизма. Но что все-таки произошло? Обнаружилась невозможность впрячь юмор в дидактическую телегу. Юмор – особый взгляд на мир. Это взгляд на жизнь как на относительность всего земного: социума, страстей и страстишек – в свете абсолютного. Как только этот свободный взгляд – предельно свободный, свободнее юмора ничего нет – утрачивается под грузом наставничества, все гибнет. И дело вовсе не в том, что в данном случае наставничество было христиански окрашенным. Таким же образом погублена «Голубая книга» Зощенко. Ведь Зощенко был раздавлен не в 46-м году – он стал гибнуть, когда под давлением времени сам стал требовать от себя пользы и нравоучительности. Булгаков разрешил для себя встающую тут эстетическую дилемму, основательно разделив в своем романе (к которому могут быть разные претензии, но роман все же очень крупен) сферу комического и сферу возвышенного, сферу Пилата и Иешуа – и сферу воландовского появления со свитой в Москве. И тем избежал сбоя, который настиг Гоголя и Зощенко. Гоголю ведь было очень нелегко. В западной традиции есть «пасхальный смех», отнюдь не почитаемый кощунством, есть такие христианские апологеты-юмористы, как в некотором роде Диккенс и особенно Честертон, не говоря о других. Иное дело – православная традиция; в ней один из обычно перечисляемых во время исповеди грехов – «неподобно смеялся». Комический писатель и правда получается чем-то сродни бесу. Так что тут «светлую» мотивацию смеха найти нелегко, убедить в ней – еще труднее… Трагедия Гоголя у Крюкова не раскрыта, она сходу подменяется какой-то адской эсхатологией, которая, пугая, увлекает и совершенно зачаровывает автора, - так что его гоголевские главы отличаются необычайной суггестивностью и действуют как наваждение. Как и должен восприниматься Гоголь с ампутированным юмором.
Сопоставление слова Гоголя со словом Достоевского страдает в книге вот еще от чего. Дело в том, что Гоголь – поэт (недаром К. Аксаков сравнивал в своей известной брошюре «Мертвые души» с «Илиадой»), комический поэт, а Достоевский – прозаик, хотя в своем, не всеми признаваемом, роде изумительный стилист. Слово в прозе и слово в поэзии имеют разный статус. Крюков пишет: «…апокалиптическая поэтика Гоголя не знает никакого “слога”, несхожего с “темой” и никакого смысла, отличного от стиля» (с. 334). Отбросим в этой фразе первое, излишнее слово и получим одно из лучших определений поэзии как таковой. Золотой век русской литературы был веком поэзии, и в нем сияли три великих поэта: Пушкин, Лермонтов, Гоголь. Следующий за золотым век можно, назвать, если угодно, «платиновым» в отличие от модернистского, Серебряного, который открывается не только символистским движением, но и Чеховым. (Платина чрезвычайно драгоценна, но без солнечного сияния.) Гоголь обращается со словом поэтически (по-своему это определено Б. Эйхенбаумом как «сказ» в его этапной статье «Как сделана “Шинель”»). А Достоевский – все же аналитически. Что не мешает протуберанцам юмора, гротеска, сарказма в его письме: вспомним хотя бы, как он защищал перед редактором «Русского вестника» «взвизги херувимов», оправдываясь, что это ведь слова черта…
Касаткина: Что черт не может иначе сказать.
Роднянская: Да, черт не может иначе.
Так вот, в синтетическом, многовалентном, дерзновенном звучании слова Гоголя-поэта Крюкову слышится бессознательное, всецело стихийное начало, чему он противопоставляет умышленное, «перенасыщенное преднамеренностью» письмо Достоевского. «То, что у [Гоголя] было гениальной нечаянностью литературного жеста, превращается в самый тонкий писательский расчет» (с. 99). Но этим тезисом умаляются оба писателя. Гоголь отнюдь не изводитель «шальных» слов, которыми «под горячую руку» он «метит все без разбору». Он юморист в высшем смысле, в том, о котором писали Жан-Поль Рихтер и немецкие романтики. Юмор, как учил Бахтин, - это редуцированный смех, прошедший через всеобъемлющую рефлексию, «сквозь слезы». Юмор Гоголя – самосознающий юмор. Ну а если бы Достоевский действительно рассчитал все то, что за него рассчитал и расчислил, с помощью электроники или без оной, Василий Крюков, если бы он в самом деле так был озабочен «словесным крапом» и «текстуальными прятками», закатился бы в такую конспирацию, он никогда не породил бы «Братьев Карамазовых». Проза, конечно, требует иного рода обдумывания, нежели поэзия, требует «мыслей и мыслей» (Пушкин), поначалу, может быть, даже и отделенных от еще не найденного для них окончательного слова. Но все многочисленные литературные аллюзии у «гениального читателя» Достоевского рождались вдохновенно, о чем свидетельствуют головокружительные контаминации рационально несовместимых источников, пучки намеков, какие «тонким расчетом» не подстроишь. Тоже – «дело поэта», как говаривал Достоевский, но поэта, мыслящего в видовых границах прозы.
Напоследок – об отношениях автора с Библией и христианством. Автор здесь вне темы. Христианство Гоголя трактуется им, вольно или невольно, в духе «нового религиозного сознания» Мережковского и Розанова. Например, он пишет: «Согласно воззрению ортодоксально христианскому человек живет вместо тела, наперекор бренной плоти» (с. 72).. Огорчившись неточностью, я даже выписала из Послания Ефесянам: «…наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных» (6:12). Образ: «как песок морской» - Крюков почему-то со значением возводит именно к Апокалипсису, хотя это библейское провербиальное выражение (например, Бытие, 32:12: «Я буду благотворить тебе и сделаю потомство твое, как песок морский, которого не исчислить от множества»). А из «препоясания чресл» (тоже пословичный оборот, означающий «готовность») он выводит некий эротизм. И так далее. Здесь все для него терра инкогнита, куда он ступает как чужак, незнакомый с местными обычаями. Уж не знаю, каким образом можно воцерковить нашу филологию, разве что воцерковив филологов, - но это было бы насилием над свободой совести...
Почему я так долго говорю о своих несогласиях с книгой Крюкова? Мною руководит порыв: защитить Гоголя от процедуры «восстановления», защитить поэтическое дело Гоголя от нужды в противовесе ему и преодолении его (как бы то и другое ни заявляло о себе в диахроническом плане самосознания литературы). И – снова и снова пояснить статус юмора: он этически и эстетически не нуждается в восполнении, хотя побуждает к тому восполнению, какое должно произойти в наших душах в ответ на его вызов.
А что вопиет о «восстановлении», так это аутентичный текст книги Крюкова, испорченный бесчисленными опечатками, неправильно начертанными дефисами и ударениями, а более всего – этой роковой путаницей в отсылках от основного корпуса к Приложениям. Кто-то должен ради выдающейся книги пожертвовать своим временем, кто-то – деньгами. Но это необходимо попытаться организовать, чтобы автор – если он нас слышит – убедился в нашей готовности привести его труд в порядок.
В.К. Кантор: Уважаемые коллеги. Я нахожусь в более сложном и в более простом положении, чем предыдущие выступавшие. Cложность в том, что я получил книгу только сегодня и успел пролистать лишь несколько страниц. Но я был одним из первых, кто напечатал статью Василия Михайловича в «Вопросах философии», это было в 1993 году, пятнадцать лет назад. Поэтому я считаю, что с его творчеством знаком – отрывочно, разумеется – но давно. Книга, по просмотру, чрезвычайно интересна. Я закончу потом неким предложением по поводу этой книги. Пока хочу остановиться на теме – волей-неволей все на этом останавливались – на теме собеседования, там, где автор собеседует с докладчиком, то есть со мной, и это – тема Смердякова и Ивана. И здесь я начну, пожалуй, с того, что Василий Михайлович выражает согласие с моей точкой зрения, что Смердяков активен, что он не пассивен. И скорее он заманивает, втягивает в эту сферу Ивана, нежели наоборот. Я исхожу здесь из двух положений. Положение первое, которое разделяла русская философия, начиная с Гоголя и Соловьева: зло активно. Оно – не недостаток добра, оно действует непосредственно, оно – реальный противник Бога. Это и черт, который устроил так, что старец пропах... но тут я вспомню «Выбранные места...», о которых мы здесь говорили. Гоголь четко формулирует – дьявол явился в мире, и мы должны что-то с этим делать. И мы должны это понимать, что Гоголь в этом высказывании абсолютно серьезен. Достоевский бесспорно принимает эту идею, зло у него активно. Но немного отвлекшись в сторону, чтобы потом вернуться к своей мысли, я остановлюсь на теме – она обозначена и в книге – Скотопригоньевска. Что это такое? Что за странное имя у города? Это же совсем не Старая Русса. Некая издевка? И все же нет. Стоит опять же здесь вспомнить два очевидных для меня момента. Скотопригоньевск, если вспомнить «свиные рыла» Гоголя, лезшие в окна, чертову красную свитку и т.п. – это город скотов. Город, где люди есть и хорошие, но между тем там настолько много Лягавых, Самсоновых, Карамазовых, бесенят вроде девочки Лизы и прочих персонажей, о которых пишет Достоевский, что поневоле жутковато. И понимаешь, что, в общем, город не самый лучший. И второе, более важное – акцентирую еще раз – это имя города: Скотопригоньевск. Я на одной конференции по Достоевскому задавал американским коллегам вопрос – где у Достоевского есть город-Фронтир. Они сказали, что такого города нет. Ну, вспомните, говорю, роман «Братья Карамазовы», а там город Скотопригоньевск. Это город, через который гонят скот. То есть по сути дела это Фронтир, американский фронтир – с ковбоями, выяснением конечных вопросов посредством кольта и петли. А если мы вспомним, когда писал Достоевский свой роман, то тема американского фронтира была очень характерна для русской публицистики, и очевидно, что он об этом читал. Но фронтир понимают очень по-разному. Фронтир – это действительно граница. Но граница у него проходит не между относительно цивилизованными и дикими местами, а между землей и небом, между Богом и дьяволом. Вот реальный фронтир. И когда Митя говорит, что «здесь дьявол с Богом борется», он говорит о фронтире. Это место, где происходит борьба. Борьба зла и добра, Бога и дьявола, и это совершенно очевидно. И все герои идут по этой линии фронтира. Кто победит? В каждом и Бог, и дьявол. В свое время, когда я писал статью об Иване и Смердякове, я случайно наткнулся на книгу Мясникова, убийцы Михаила Романова. Книга, где он говорит о том, что пора восстановить нам честь Смердякова перед всеми этими дворянами, которые загубили борца против «зажиревших Богов», что-то в этом духе. Замечательно совершенно – убийца с характерной фамилией «Мясников» говорит о необходимости восстановить честь Смердякова. Недавно, так получилось, я перечитал знаменитую книгу Ропшина, он же Борис Савенков «Конь блед». И если кто помнит эту книгу, там есть постоянная отсылка к Смердякову. И в конце концов Жорж, автор-рассказчик, говорит: «Почему мы ругаем Смердякова? Мы не Иваны Карамазовы – мы Смердяковы. Мы идем его путем». Это восприятие террора как смердяковщины – не Иваны Карамазовы, а Смердяковы это делают. Иван – это сослагательное. «Если Бога нет, то все позволено». Это «если» в восприятии Скотопригоньевска уходит. Смердяковы берут просто обрубленную мысль: «Бога нет». Значит, позволено. Иван говорит, что если Бога нет, то начнется антропофагия. Если вы убьете Бога, то начнется людоедство. И в этом смысле линия от Ропшина до Мясникова очень характерна – действительно, народилось зло, которое абсолютно элиминировало Бога и стало активным злом, побеждающим Россию. И я думаю, что Василий Михайлович прав, когда он исходит из Гоголя и – я не знаю, мне очень понравилось, но я не успел просмотреть внимательно, к сожалению – параллели, которые здесь есть, они очень любопытны, я думаю. Это та Гоголевская установка, когда, если вы помните, тот же Басаврюк, который оказывается сильнее героя, в «Заколдованном месте», как Смердяков, который активнее, чем Иван. Это Петруша Верховенский, который активнее, чем все остальные и, естественно, активнее, чем его отец. И вот это весьма важный момент линии от Гоголя к Достоевскому, это понимание, которое, к сожалению, не было воспринято до конца русской культурой – что зло активно. Что зло требует борьбы с ним. Это и есть тема этих двух великих писателей. Они об этом говорили. К сожалению, это не было воспринято. Так что время, когда зло на наших глазах разворачивалось, сворачивалось, оно не ушло, оно существует. Это надо помнить и понимать. И эта книга во многом здесь способна нам помочь. А закончить я хотел предложением к Татьяне Касаткиной, которая так подробно прочитала книгу и так интересно ее пересказала со своими комментариями, почти свое сказала, говоря о Крюкове – написать рецензию для «Вопросов философии». Если она это сможет сделать, я думаю, мы все будем ей благодарны.
Т.А. Касаткина: Спасибо.
С.А. Неольсин: Географическое обозначение где-то в близи выходных данных книги, Даньшуй, заставило меня глубоко задуматься. Я не знаю, насколько человек прирос к тем краям, название которых он обозначил. Но если он действительно там долго жил и принадлежал тому миру, то писать эту книгу было нелегко и тяжелее, чем многим. Он, может быть, сознавал, что его читателям его неполная территориальная принадлежность к нашей стране известна. Этого я не знаю. Но расскажу о тех страницах, которые бросились мне в глаза. Приложение к книге возрождает в памяти чеховские слова: «гений – это умение трудиться». Сто страниц приложения с параллелями между текстами Гоголя и Достоевского, пусть даже автор не от руки всё это делал, а с помощью каких-то механизмов, – всё равно это труд, и это труд, предъявленный читателю. Он как бы составлен из половинок Гоголем и Достоевским, а фактически состоит из того, что продумано самим уже автором книги. Ломаный же или взломанный, конвульсивный и иной раз кривляющийся и ломающийся язык составляет тоже яркое, но не лучшее свойство книги. Очень правильно было сказано – язык отвязанный. Пятьдесят лет назад таких слов, как «отвязанный язык», еще не существовало. Язык отвязанных людей; или язык человека, который считает, что быть отвязанным в современном смысле – достойно; да, это язык, становящийся языком современного литературоведения или чего-то подобного по знанию литературы и изложения ее сути. Чичиков... «Небокоптитель Тентетников, а Чичиков – его тень, Тень-тетников. Вместе они – чи-чик, тен-тет – тянут-потянут сюжет в какую-то призрачную отвлеченность». «Чичиков никак не равен математическому нулю Андрея Белого, он не настоящий законченный призрак, а призрак какой-нибудь, якобы-тень – Не-тетников». «Отсюда весь гоголевский сыр-бор, “невидимые слезы”» и тоска по иному миру. В странном герое Гоголя тоскою выдается ино-странная натура. <...> Этой экзистенциальной странности в упор не заметил Мережковский <...> он рассеялся принял его за нормального <...> тот, если и живет, то только движением к рубежу и сплошной колебательностью собственного смысла». Не удивлюсь, если на других страницах этой книги я встречу слова «клевый», «блин» и утверждение о том, что Гоголь есть юморной писатель.
Т.А. Касаткина: Не встретите.
С.А. Небольсин: Но если бы предстояла вторая часть этой книги и там были бы эти слова, я бы не удивился. Однако это все сослагательность. В книге с благородством и с серьезным присутствием ума и зоркости написано предисловие. Благородно, свежо и зорко. Я, конечно, и за всю эту книгу могу отдать много случайно прочитанных книг. Она насыщенна и толкает на серьезные размышления. И одно из них я изложу. Главный вопрос – птица-тройка и «Мёртвые души», откуда она – это свидетельство только либо упование и ожидание? Да, есть глубокое, трепетное, с осмотическим вхождением плоти в плоть соотношение между темой «Братьев Карамазовых» и заботой Гоголя в «Мертвых душах». Возрождение павшего, погрязшего в грехе, в низости, в злобе и зле, так погрязшего в нем, что становишься рабом и исполнителем этого зла. Достоевский брал эту тему не только у Гоголя, он брал ее и у Некрасова, недаром так любил Кудеяра-атамана, «Жили двенадцать разбойников...» и «Власа». Это уже стало хрестоматийным – и представляешь, как Достоевский страстно читает в каком-нибудь собрании именно «Власа» Некрасова. Но не продолжения литературой хотел своими словами Гоголь. Сама Россия, прожившая после Гоголя и Достоевского более ста лет, знала какое-то гоголевское поползновение и дерзновение. Трудно было Гоголю – вероучителю и обустроителю. Трудно без патриарха, и патриарх пришел, это было на наших глазах. Не менее важно, что на наших глазах и тройка полетела, и еще как, заставляя постораниваться другие народы и государства. Мы это видим независимо от того, занимаемся мы китайской литературой, живем ли мы в Тайване, в Москве, на Пресне или в каком-нибудь Семибоярске или Скотопригоньевске – мы это видели, весь мир это видел. И тройка полетела, и искупительная жертва состоялась. Ничего более православного, – и Гоголь и Достоевский с этим бы согласились – чем 1941-ый – 1945-ый годы, и Россия, и человечество после крещения Руси и после Страстной недели не видели. Я не оспариваю связь между двумя великими книгами – Гоголя с одной стороны и Достоевского с другой стороны. Я просто говорю, что след птицы-тройки ведет в жизнь двадцатого века, а не в судьбу книг девятнадцатого или двадцатого века. В той мере, в которой книги перерастают в книги – всё, что усмотрено Крюковым – усмотрено безупречно. За исключением нескольких страниц пошиба «клевый», «блин» и «юморной» (чего нету, но что назревает). А вот в остальном гоголевский след я вижу в другом – в России много после её великих классиков.
К.А. Степанян: Об этой книге можно сказать так же, как сказал святитель Игнатий Брянчанинов про «Выбранные места из переписки с друзьями»: она источает из себя и свет, и тьму. Замечательные наблюдения и находки, особенно что касается творчества Гоголя, с которым автор, очевидно, резонирует на некоем подсознательно-психологическом уровне. Как-то изнутри прочувствована непреодолимая граница между творцом и его персонажами у Гоголя (особенно выразительно – в том месте из «Мертвых душ», где сразу после лирического отступления «Русь! Чего же ты хочешь от меня?» следует: «- Держи, держи, дурак! – кричал Чичиков Селифану»). Чрезвычайно верным и важным представляется мне такое наблюдение Крюкова (правда, отчасти повторяющее суждение Набокова): «Сквозят <…> все тексты Гоголя без единого изъятия. Точкой опоры этого невесть как существующего сочинительства служит провал, проем, пролом и выбоина <…> пустотность и сплошное зияние <…> непроницаемая бездна». Думается, когда В. Набоков писал: творчество Гоголя напоминает нам, что «разница между комической стороной вещей и их космической стороной зависит от одной свистящей согласной» – он имел в виду именно это: засасываемое со свистом в бездну, в «заколдованное место» существование в гоголевском мире. Об апокалипсическом ужасе Гоголя – ужасе знакомого лица – Крюков пишет как бы вскользь, но это тоже чрезвычайно характерная деталь: для сосредоточенного на себе существования мир – не что иное, как бессознательная проекция собственной личности. Гений Гоголя в том, что он создавал на этой основе великие произведения; но и для гения невыносимо, когда в зеркале мира видишь собственное – в его подлинном виде – лицо. Гоголь довольно долго не хотел этого осознавать и тем более признаваться в этом. Осознал, что это именно так, Гоголь лишь в последние годы жизни. Для того, чтобы после этого продолжать писать, более того – создать произведение, показывающее пути возрождения «мертвых душ», надо было возрадоваться Божьему милосердию или (скорее – и) возрадоваться присутствию Божьего образа в каждом человеке. Но это оказалось, по-видимому, закрыто для Гоголя. Замечательно точно сказано у Крюкова о том, что «Гоголь лица человеческого не зрит (я бы сказал: не видит других человеческих ликов. – К.С.), он видит одно лишь “тление на личине мира сего”, несводимую образину колдуна под фиктивным обликом “отца”». Отсюда знаменитое гоголевское «Боже, пусто и страшно становится в Твоем мире!».
Очень точно говорится о «раздоре между мечтой и существенностью» у Гоголя – «и эта раздвоенность, доводящая до самоопустошения, является (у него. – К.С.) главной темой России» (напомню такие слова Достоевского: «там, где кончается религия, начинаются лишь мечтания»).
Гоголь не находил в себе и в мире реальных основ для веры в грядущее преображение человека и всего бытия, а значит – для создания светлого и прекрасного образа в творчестве. Отсюда – «кошмар самодовлеющего тела», отсюда – постоянное ощущаемое рядом «какого-то другого себя: темного, безымянного, “немыслимого”, “несуществующего”» (не случайна обмолвка Гоголя в одном из писем: «не знаю, как назвать тебя, мой гений»). Иногда это «другое» неожиданно прорывалось, как, например, в миргородских повестях, где признаком сатаны и дьявольщины являются красная свитка, красный жупан колдуна (которого люди с детства обижали насмешками и потому он затаил на них зло) – а псевдоним автора (тоже обижаемого в детстве сверстниками) Рудый Панько.
Для Достоевского, для его Зосимы красота мира, проницательно замечает Крюков, имманентна, тогда как для Гоголя – трансцендентна. Слова Маркела (брата Зосимы): «Жизнь есть рай и все мы в раю, да не хотим знать того» являются, считает Крюков, «вызовом Гоголю, со страниц которого раздается нескончаемое восклицание: “Жизнь есть ад!”». Отсюда – постоянный страх как доминанта творчества Гоголя (произведения Гоголя – «энциклопедия страхов», как заметил недавно Сергей Шаргунов), в то время как во всем корпусе произведений Достоевского выражение «страх Божий» встречается лишь дважды: раз в «Бедных людях» и раз в «Бесах», где Липутин содержал семью «в страже Божьем и взаперти». И гоголевское предсмертное: «Страшная История Всех событий Евангельских», пишет Крюков, - это ферапонтово «Страшно, о страшно!» пред деревом-Христом. А у Зосимы Христос – Солнце, «не бойся Его», - говорит он Алеше в видении Каны Галилейской.
В часто цитируемом письме Фонвизиной Достоевский говорит, что остался бы с Христом, даже если бы было доказано, что Христос вне истины. Здесь и радость, и уверенность в том, что он остался бы со Христом, и Христос остался бы с ним. Тут основа всего послекаторжного творчества Достоевского. А Гоголь пишет архиепископу Иннокентию: надо бы бросить писать, потому что о мелочах говорить не хочется, а как только заговоришь о высоком – встретишь Христа «и можешь наговорить нелепостей» – подсознательное понимание того, что даже при встрече со Христом он все равно будет продолжать говорить от себя, своими словами, а не воспринятым глаголом. И потому, бесспорно, имеет основание суждение Крюкова о том, что творчество Достоевского второй половины жизни – после прохождения «горнила сомнений» – является своего рода ответом Гоголю, врачеванием «раны в сердце», нанесенной молодому Достоевскому гоголевской «Шинелью». У Достоевского «гнусный омут» способен обернуться «крещенской купелью».
Но на этом заканчивается мое согласие с автором обсуждаемой книги. Крюков часто упрекает цитируемых им исследователей в том, что они, заметив нечто важное, не довели мысль до конца. Но так же и он, выбрав в качестве основы анализа творческий метод обоих писателей, удивительным образом не сосредотачивается на разнице между мировидением Гоголя и Достоевского (сам, впрочем, признается в начале, что его интересует скорее способ воззрения писателя на мир – а это все же нечто другое). И потому из всех своих замечательно точных, верных и ярких наблюдений делает такой вывод: в мире Гоголя царит хаос, который он мечтает отринуть, но не в состоянии это сделать, поскольку сам его постоянно словесно родит, а у Достоевского «нет иллюзии – от хаоса отделаться, и он пробует с ним жить, уживаться, сверх того, созидать на нем свой порядок», гармонизировать. Но это уже получается какая-то теория постреализма наших литературоведов Липовецкого и Либермана: так они назвали литературное направление (следующее, по их мнению, за постмодернизмом), в основе которого – попытка писателей как-то гармонизировать царящий в мире хаос. Это может относиться к произведениям Захара Прилепина или того же Шаргунова, ни никак не Достоевского. Для Достоевского (что и было основой его веры и его творчества) мир изначально и конечно, предвечно и вечно гармоничен, ибо создан Словом, Логосом, Христом, а потому онтологически совершенен, целостен (для Гоголя же, верно пишет Крюков, «мир бесконечно дробен»). Именно это постоянное видение Христова образа в мире и в людях, образа, в Котором все и из Которого все (вспомним пастернаковское «И образ мира, в Слове явленный». – буква «с» поднята мной. – К.С.) было доминантой творчества Достоевского, позволяло не сбиваться с пути, осознавать, что жизнь есть рай, а все искажения и нестроения – исцелимы (и постигать пути исцеления). «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа» (2-е Кор. 3:18). У Гоголя же в зеркале – «кривая рожа». Вот почему из-под пера Достоевского выходили индивидуальные образы, а из-под пера Гоголя – типы.
В книге В. Крюкова часто поминается, причем иногда на грани кощунства, евангельское: «Слово плоть бысть и вселися в ны», но ни разу – в том определяющем мироздание смысле, который был единственно значим для Достоевского). Для Гоголя же это звучало, видимо, так: «и вселися в мя» (в мое «я», которое, несмотря на все осознанные и неосознанные пороки, лучше, значительнее многих других). А в других он Слова не видел. И пустоту пытался наполнить фантазией и виртуозным описанием. Вспомню еще два точных суждения Набокова (который, как и Крюков, точно постигал Гоголя, будучи с ним на одной «волне»): о насыщенности «творческой фантазией», а потому «метафизически ограниченной» религиозности Гоголя, и о том, что его творения – это «феномен языка, а не идей».
Достоевский понимал, что каждому человеку дана «власть стать чадом Божиим» (как говорит апостол Иоанн там же, где повествует о Слове, ставшем плотью – Ин. 1:12-14). А Гоголь видел человека во власти сатаны, видел вокруг «коллекцию гадких рож <…> невтерпеж мне пришлось глядеть на них. Даже плевать хочется, когда о них вспоминаю» (писал он Погодину в сентябре 1836 г.). «Жалкий человек, жалкое человечество!» – воскликнул Белинский по прочтении «Старосветских помещиков» - после какого из произведений Достоевского мы можем сказать такое? Достоевский мог признаваться, что даже таких героев, как Ставрогин, он «взял из сердца своего», ибо верил в силу Божьей благодати и возможности спасения своего и всех.
Сергей Георгиевич говорил, что Гоголь в своем творчестве впервые разъял человеческий образ на человека внутреннего и внешнего в соответствии со словами апостола Павла (хотя сам Крюков пишет, что «у Гоголя нет внешнего и внутреннего, в его созданиях мы зрим одну пустотность и сплошное зияние»). Но для меня важнее то, что Гоголь довел до предела свойственное литературе Нового времени разделение автора на того, каким он хочет показаться, и того, каков он есть на самом деле (вспомним знаменательное «достоевское»: «явилась смеющаяся маска Гоголя»). Достоевский же бесстрашно вернул литературе свойственную ей исповедальность.
Вообще, мне представляется, очень многие нынешние исследователи, не только автор данной книги, говоря о христианстве в русской классической литературе, относятся к христианству как к идеологии, диктующей своему адепту те или иные убеждения (например, Крюков в одном месте говорит, что в Гоголе борются христианин послушный с христианином апокалиптическим), а не как особое состояние личного бытия и видения мира. Готов ли я тогда, вслед за Достоевским, утверждать, что «христианство Гоголя (чье видение мира так отличалось от «достоевского». – К.С.) не есть христианство»? Нет, не готов. Я думаю, что это разные стадии, «ступеньки» – вера, рождающаяся из страха (про гоголевскую «веру из страха» писал Мочульский) и рождающаяся из любви. Об этом различии (определяющем все остальное) у Крюкова, к сожалению, не сказано ничего.
Что же касается текстовых сопоставлений последнего романа Достоевского с гоголевскими произведениями – процент убеждающих и не убеждающих я оцениваю примерно так же, как Ирина Бенционовна. Но дело ведь не в этом. Я думаю, что мир Достоевского (во всяком случае, мир «Братьев Карамазовых») создавался не как отрицание чего-то, возражение чему-то (пусть и такому незаурядному явлению, как гоголевские творения). Достоевский просто художественно воссоздавал мир таким, каков он есть в подлинной реальности, а затем уже это могло восприниматься как возражение создателям всех тех художественных вселенных, где реальный мир искажался в той или иной степени.
Е.В. Степанян: Добавлю к сказанному выше буквально два слова, причем наверняка повторю что-то, что уже было говорено предшествующими выступавшими. Когда приходится читать – в особенности «валом», в большом количестве – те или иные современные исследования, литературоведческие, искусствоведческие, − то и дело приходится сталкиваться с текстами, так сказать, написанными для себя. То есть выдержанными в некоем очень узнаваемом, авторском и в то же время широко распространенном стиле: они очень зашифрованы, очень герметичны, и, по-видимому, именно это является усладой для автора и фирменным знаком для ближайшего к нему круга. К великому счастью, эта книга – полная противоположность исследованиям подобного рода, в нее погружаешься с легкостью, а то и с радостью. Она чрезвычайно привлекательна литературно, а ведь это − огромнейший плюс для литературоведческой работы. Автор чувствует слово, в словесной среде он парит, как вольный сын эфира. Он чувствует свою способность каких-то тончайших проникновений в суть исследуемой проблемы и пластичнейших изъяснений этой сути. И, паря, он в то же время безукоризненно формулирует (это, впрочем, совсем не значит, что его формулировки и выводы верны, они просто эстетичны), ему доступны и большие обобщения, и самая, как сказал Сергей Георгиевич, мелочевка, тончайшая исследовательская деталировка. Это-то и примечательно, это и хорошо. Но тут еще кое-что надо отметить: не случайно мелькнуло в словах Ирины Бенционовны имя Свифта. Возникает от чтения этого текста впечатление такой гулливеровской оптики, как бы избегающей нормального человеческого масштаба, не замечающей его. Данное впечатление − очень тревожное, очень напряженное. Действительно, тут встречаются то какие-то великанские обобщения, такие, что дальнейшее увеличение масштаба просто невозможно. То происходит перепад к такой лилипутской мелочевке (которой очень много), к такой деталировке, что дробнее и придумать нельзя. И мне кажется, что книга столь интересная из-за этого оказывается перегруженной, что подобные перепады от великанского к лилипутскому − балласт для нее. Еще два слова об обобщениях. Карен не без резкости выразился (может быть, и справедливо) о почти богохульных, во всяком случае, запредельно дерзких авторских высказываниях, встречающихся в тексте. Вероятно, и слишком «жестоко слово сие», не решаюсь судить. И все же, когда автор снова и снова, возвращаясь к словам Иоанна Богослова «Слово Плоть бысть», совершает головокружительно смелый вольт, свойственный ему, и переходит к выводам о том, что в известном смысле христианство эротично, а, предположим, Иоанн Богослов – это самый эротичный из евангелистов, мне кажется, что страдает в первую очередь эстетика крюковского текста. Я не говорю о каких-то этических вещах и не говорю о вещах вероисповедных. Может быть, и следовало бы, но моя задача другая. Мне кажется, что художественная привлекательность этого авторского литературоведения, этого авторского текста, которую, мне кажется, ощущают все его читатели – страдает, тускнеет, не выдерживает таких идейных перегрузок. Такой, добавим, идейной недостоверности. Вот, собственно, все, что я хотела сказать.
А.Л. Гумерова: Я буду так же кратка, если не более. Дело в том, что довольно много говорилось про эту книгу отрицательного, а я хочу сказать, что мне книга понравилась и понравилась чрезвычайно. Настолько, что когда я готовила это выступление, - знаете, у меня сначала было желание поступить так, как Белинский критикует нравящихся ему авторов. Он цитирует их сплошняком, абзацами, страницами... У меня было такое же желание относительно этой книги, потому что автор делает что-то, что меня очень глубоко задело и оказалось чрезвычайно близким. Ирина Бенционовна привела то, что к этой книге просится – слова Бема: «Достоевский – гениальный читатель». Достоевский – внимательный читатель, его произведения существуют в контексте тех книг, которые он читал и знал наизусть. На мой взгляд, книга Крюкова именно это и показывает: каким образом Достоевский осмысляет и переосмысляет в своих произведениях те тексты, которые он знал наизусть и глубоко. Естественно, мое внимание больше всего привлекла вторая и третья часть, то есть «По делу Карамазовых» и «По слову Карамазовых». Мне показались интересными не только гоголевские следы в «Братьях Карамазовых», о которых пишет Крюков, хотя и они тоже утонченны и изящны, - но насколько утонченно проделан анализ собственно пересечений в «Братьях Карамазовых»! Я сейчас все-таки приведу слова Валентина Семеновича Непомнящего из книги «Пушкин. Русская картина мира», где он говорит: «Сплошной контекст <...> это такой контекст, в котором все – насквозь и наперекрест, по горизонтали и вертикали, от начала и до конца – вяжется, соотносится, резонирует, взаимодублируется, рифмует, зеркально взаимоотражается, так что та или иная связь способна быть нитью, могущей вывести к центру замысла. Это сплошь функциональный контекст, в нем на замысел “работает” все без исключения, до мельчащих деталей, до авторских купюр <...> и пустот <...> (Непомнящий В. С. Пушкин. Избранные работы 1960-х – 1990-х годов. Т. II. Пушкин. Русская картина мира. М., 1999. С. 472). У меня не возникло ощущения, что идет какая-то перегрузка деталями, пересечениями Гоголя и Достоевского – потому что сам Крюков говорит, что это ниточки. Да, это те самые ниточки, которые могут вывести даже не столько на авторский замысел, сколько на способ взаимодействия текстов Достоевского с другими текстами, в данном случае с текстом Гоголя. Берутся очевидные отсылки к Гоголю, как, например, прямая цитата в речи прокурора о птице-тройке, или какие-то более скрытые отсылки, как, например, диалог Алеши и Федора Павловича о ликерце, который спроецирован на диалог Чичикова и Плюшкина, или какие-то отдаленные звуки, которые тем не менее работают, как раз такие, которые автор называет ниточками – ниточка, скажем, про черноногую девочку в речи кучера Селифана, которая пересекается с Митей, который трехлетний бегал без сапожек, и дальше все выводится на фамилию Карамазов-Черномазов. Но это же все действительно каким-то образом все-таки имеет значение. Может быть, не столько концептуальное, сколько именно иллюстративное. Иллюстрация подхода. Наблюдения над перекличкой между словами Ивана и Смердякова, причем в той ситуации, когда пародия появляется явно раньше, чем оригинал – как цитата слов Каина о брате Авеле или это выражение «непобедимой силой» - прекрасное замечание! У Смердякова «Непобедимой силой привержен я к милой», и через несколько страниц - «народ непобедимой силой» тянется к Иисусу. Очень тонкое наблюдение. Или, скажем, прекрасная тема двойного двойничества, которая опять же подробнейшим образом разобрана. Двойничество Максимова, Федора Павловича, Зосимы и Мити Карамазова, которое через Максимова выводится на Гоголя, и двойничество Хохлаковой, Снегиревой, Лизаветы Смердящей и намек на двойничество с матерью Коли Красоткина, которое тоже через Хохлакову выводится на Коробочку, на гоголевский контекст. Действительно, как говорит Непомнящий о Пушкине – все взаимодублируется, рифмует и зеркально взаимоотражается в самом буквальном смысле. Мне кажется, что все эти детали, мелочи, встраиваясь в общий контекст, по большей части работают. Я не думаю, что там есть много избыточных вещей, то есть у меня такого ощущения не возникло. Собственно говоря, это все, что я хотела сказать, но еще раз скажу, что книга понравилась очень.
А.Г. Гачева: Трудность сегодняшнего разговора заключается в том, что мы не услышим ответного слова Василия Крюкова. Обсуждение живущего автора всегда открыто. Оно позволяет продолжиться его собственному слову, заново углубиться в предмет, увидеть то, что ранее не бросалось в глаза. Здесь перед нами текст, к которому ни одного слова писавшим его человеком прибавлено уже не будет. Когда я читала книгу и размышляла над тем, что она собой представляет, я несколько раз обращалась к фотографии, напечатанной в ее начале. И вот, вчитываясь в текст и вглядываясь в лицо Василия Крюкова, я поняла, что перед нами не только филологический сюжет, но и какой-то его собственный, внутренний, глубоко личный сюжет.
Сергей Георгиевич Бочаров очень точно заметил, что автор гораздо более взволнован Гоголем, гораздо более пристрастен к нему, чем к Достоевскому. Вторая часть книги, действительно, более филологична, более отстраненна и спокойна. Похоже, что Достоевский для автора не представляет проблемы. Проблему для него представляет Гоголь. Гоголь с его раздирающим ужасом перед реальностью, с его апокалипсизмом, с его невозможностью соединить творчество и жизнь, настойчивыми поисками адекватной формы выражения своих художнических идей и религиозных прозрений. Достоевский – художник, не просто установившийся «на камени веры», но и сумевший выразить в творчестве свой идеал. Гоголь – искатель, именно это и привлекает Василия Крюкова, ибо и сам он идущий, но не пришедший.
Книга, которую мы обсуждаем, впечатляющее тому свидетельство. Это не столько книга ответов, сколько книга вопросов. Она есть вопрошание автора, обращенное и к Гоголю (в большей степени) и Достоевскому (в гораздо меньшей), но главное – к Богу, миру и человеку. Еще раз повторю: филология здесь идет рука об руку с жизнью, экзистенциальным опытом.
Чувствуя незавершенность исканий Гоголя, родственную его собственной внутренней незавершенности, автор уничтожает дистанцию между собою и классиком. С Николаем Васильевичем он запанибрата, так сказать, на дружеской ноге. Гоголь для него – ближний, свой. Достоевский же – дальний, чужой. Это уже какая-то другая планка, иное измерение, и потому здесь возможно профессионально-уравновешенное, мирно-овнешненное отношение. А Гоголь – его будит, Гоголь волнует, Гоголь порой возмущает и заставляет яростно спорить. Текст о Гоголе то пульсирует от скрытого напряжения, то буквально взрывается эмоциями.
Эмоциональность и пристрастность, неравнодушие – с одной стороны, профессиональное мастерство – с другой. В книге Василия Крюкова мы находим массу тонких и точных филологических наблюдений. Сущностные смыслы открывает его «лицезрение Гоголя», его следствие «по делу Карамазовых». Он чувствует в Гоголе предтечу – и это, на мой взгляд, самое главное – многих тем и мотивов и русской литературы, и русской философии уже последующих десятилетий. К примеру, когда Василий Крюков говорит о гоголевской эротософии, о том, как преломляется у писателя тема пола, он выводит нас к этике преображенного эроса, к которой, безусловно, прорывался Гоголь. Прорывался очень трудно, через вопросы, сомнения, откаты назад. Точно так же, как пытался, несмотря ни на что, справиться с разрывом между творчеством и бытием, обнажая проблему границ и высших заданий искусства, которая спустя годы встанет и перед Толстым, и перед Достоевским, и перед русским Серебряным веком.
История филологии свидетельствует: рефлексия над религиозной составляющей творчества, даже если она сознательно вынесена за скобки, а основное внимание дается сугубо филологическому анализу, в конце концов в литературоведческий текст возвращается. Яркий пример – работы А.Л. Бема. Создавая свою школу во внутренней полемике со школой религиозно-философской критики, он – с другого конца и своими филологическими путями – приходил ко многим ее выводам, подкрепляя то, что уже было сказано ее представителями, конкретным анализом текста. Погружение в проблемы поэтики вело к постижению сущности авторской идеи, религиозного идеала писателя. То же находим мы и у Василия Крюкова: сквозь призму художественного анализа то и дело преломляются религиозные смыслы, хотя специальной задачи исследовать религиозно-философский план творчества Гоголя и Достоевского себе он не ставит.
Но – и об этом «но» нельзя не сказать – его книге, где прекрасно работает бемовский метод «мелких наблюдений», не хватает того, что, безусловно, было у Бема. Не хватает интуиции целого. Как литературоведы мы идем к целому от детали, демонстрируя, как деталь работает в произведении, служит созданию его верховного смысла. Но если у нас нет предзнания, предугадывания этого верховного смысла, общего строя авторской мысли, нет, повторю, интуиции целого, мы не сможем собрать и связать множество мелких наблюдений в стройное и осмысленное единство, да и в сами наблюдения начнет проникать произвольность – и такая произвольность у Василия Крюкова подчас возникает, что было отмечено в выступлении Ирины Бенционовны Роднянской.
И еще одна важная вещь. Ирина Бенционовна точно заметила, что когда Василий Крюков вступает на духовную территорию христианства, он чувствует себя на ней очень неуверенно. Он не понимает пока, что такое христианство в своей глубине, в своих высших чаяниях. Он еще не сознает, что христианство – это религия преображенной материальности, а не спиритуализм, не разрыв плоти и духа, неба и земли. С другой стороны – не случайно он так зацепился за статью Леонида Карасева «Гоголь и онтологический вопрос». Ибо голый спиритуализм и его самого, Василия Крюкова, никак успокоить не может. У Гоголя он чувствует тоску по преображению, не только духовно-нравственному, но и телесному, его несмиренность с тем, что этот мир, яркий, многоцветный, разнообразный, раскидывающий перед взором наблюдателя такое щедрое обилие вещей и явлений, в своей глубине искажен, ввержен во власть времени и смерти, что все в нем пропадает, ветшает, стирается в безвестную пыль. Это боление о бытии и жажда его преображения – сокровенная тема русской литературы.
Одно замечание, обращенное уже к речи Леонида Карасева. Вы говорили, что Гоголь не может примириться со смертным порядком вещей, а с другой стороны сознает, что это богоустановлено. Однако такой порядок никак не богоустановлен, он воцаряется в мире лишь с грехопадением. Бог смерти не создал. Он сотворил мир без тления, без смерти, без розни. И в Царствии Небесном, венчающем развитие мира, смерти больше не будет. С благой вестью о преодолении смертного, послегрехопадного порядка творения, преображении бытия, исцелении его от язвы греха и смерти и приходит Христос. Здесь вся проблематика Достоевского. И Гоголь шел в своем творчестве именно к такой трактовке христианства.
Я не знаю, слышит ли нас сейчас автор книги «След птицы тройки», но если за гранью видимого мира продолжается духовный путь личности, может быть, он уже нашел ответы на свои вопросы и договорил то, что мог бы договорить, останься он на земле и продолжая свое собственное движение, свой внутренний рост и как человек, и как филолог. Вечная ему память! Спасибо.
В.А. Губайловский: Я буду совсем краток. Во-первых, в этой книге чрезвычайно много «лишнего». Она в определенном смысле вся из «лишнего» и состоит. Но те тонкие замечания, которые делает автор о Гоголе и Достоевском, исключительно важны. А вот «необязательность» суждений придает этим суждениям неожиданную свободу. Эту сложную книгу легко читать.
Кроме того, я обращу внимание на один сюжет: в предисловии, автор вычленяет и подчеркивает понятие дела. И дальше многочисленные определения дела, многочисленные коннотации дела у Гоголя и Достоевского (особенно у Достоевского) автор проводит через всю книгу – то теряя это «дело», то возвращаясь к нему, и, в конце концов, заканчивает в эпилоге опять-таки понятием дела.
В «Фаусте» есть место, где герой переводит первые слова из Евангелия от Иоанна. Фауст перебирает различные варианты, поскольку канонический перевод «В начале было Слово» ему не нравится. Фауст пробует: «В начале мысль была», «В начале была сила», и, в конце концов, останавливается на варианте: «В начале было дело». (И в этот момент появляется Мефистофель).
Если внимательно проследить сюжет дела у Крюкова, если пойти по этой ниточке от предисловия к эпилогу можно увидеть, как ориентирован относительно этого сюжета весь текст книги: дерни за эту ниточку и весь немалый тестовый массив начнет вращаться. И тогда, кажется, можно понять, чего, собственно, добивался автор. Он нерелигиозный человек. В каком-то смысле – он и есть Фауст. И тогда проясняется его взгляд на Гоголя, и понятно, почему он именно так видит «Братьев Карамазовых».
Если отталкиваться от книги Василия Крюкова можно действительно многое понять, в частности, разбирая сюжет «дела» в «Братьях Карамазовых».
Я не скажу о Василии Крюкове «гений», но то, что он человек невероятно талантливый и многое в книгах своих героев – и Гоголя, и Достоевского – понявший, безусловно.
Т.А. Касаткина: Господа, если больше у нас уже нет сил, то спасибо вам всем огромное.
[1] См., например: Крюков В.М. Ритуальная коммуникация в древнем Китае. М., 1997; Крюков В.М. Текст и ритуал: Опыт интерпретации древнекитайской эпиграфики эпохи Инь-Чжоу. М., 2000.
[2] См.: Крюков В.М. Вокруг России. Синтаксис Василия Розанова // Вопросы философии. 1994. № 11; Крюков В.М. Гоголя зрящий глаз // Вопросы философии. 1996. № 9.
[3] Гоголь Н.В. Собр. соч. М., 1994. Т. 7. С. 303.
[4] Роднянская И.Б. Развязка «Женитьбы», или Чему смеемся?// Роднянская И.Б. Движение литературы. В 2 т. Т. 1. М.: Знак: Языки славянских культур, 2006. С. 90-123.
|
|
 |
|