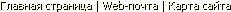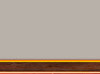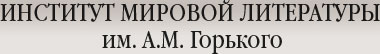|
|
 Об ИМЛИ
| Выдающиеся ученые ИМЛИ
| Н.И. Балашов
| Данные статьи Н.И.Балашова не были опубликованы при его жизни
Об ИМЛИ
| Выдающиеся ученые ИМЛИ
| Н.И. Балашов
| Данные статьи Н.И.Балашова не были опубликованы при его жизни
Данная статья Н.И. Балашова не была опубликована при его жизни, так как представляла два черновых варианта, один из которых являлся машинописью, подписанной автором следующим образом: 14 (1) янв. 2000 г. Академик Н. Балашов.
Второй вариант написан от руки или частично под диктовку женой Николая Ивановича – Гиреевой Т.Д.
В марте 2009 г. оба черновых варианта были объединены (в основу лёг текст машинописи) Гиреевой Т.Д. и искусствоведом Макаровой С.Э., которые постарались внести минимальные изменения. В нескольких случаях были устранены повторы; часть сносок внесена в основной текст; дан список использованной литературы и составлен словарь основных искусствоведческих терминов.
В черновиках Николая Ивановича сохранились три (!) варианта заглавия. Причем, ни на одном из них автор окончательно не остановился. Взят тот, что – на наш взгляд – наиболее точно соответствует содержанию авторской работы.
Н.И. Балашов планировал издание сборника своих статей под общим заглавием "Излучение российской культуры и общеевропейское художественное развитие".
Статья, о которой мы говорили выше, должна была войти во второй раздел ("Вопросы культуры и русская интеллигенция") под названием "Живописные и архитектурные перспективные системы в их соотнесённости с теологическим принципом иконной перспективы". Планировалось, что она будет с иллюстрациями.
Автор посвятил её памяти отца Павла Флоренского
и академика Б.В. Раушенбаха.
Н.И. Балашов
Заметки о зеркальности, криволинейности, сферичности
в художественной перспективе и её теоретических интерпретациях.
Пространства нет.
Есть кривизна пространства.
Эта работа посвящается 85-летию известного математика, в том числе, и математика-прикладника, моему старшему (на пять лет) коллеге по Российской Академии Наук, избранному академиком в тот день, когда я еще только был избран член-корреспондентом в далёком 1984 г., Борису Викторовичу Раушенбаху.
Я не в силах приумножить похвалы ученому в области математики, но постараюсь присоединиться к тем, кто удивляется его достижениям в разработке выверенного геометрического и физиологического обоснования научной теории перспективы в живописи и архитектуре. Это книга "Системы перспективы в изобразительном искусстве: общие теории перспективы" [М., 1986]. Она содержит новое, математически выраженное (также в формулах) "перцептивное", точное обоснование "реальной" перспективы за пределами той геометрической оптики, которая была блестяще разработана в эпоху Возрождения со времен Брунеллески и Альберти. Следующая книга "Геометрия картины и зрительное восприятие" (М., 1994)[1], ссылающаяся на математический аппарат предыдущей, стремится к расширению круга вопросов и к более доступному (из-за этого контрастнее и более сжато, чем в работе 1986 г.) изложению системы перцептивной перспективы. Это означает необходимость для перспективы рассматривать "глаз + мозг", а также разрабатывает и некоторые другие проблемы: например, о чертежной больше, чем о собственно художественной правомерности древнеегипетских рисунков и росписей (без рассмотрения проблем колорита изображений). Хотя встречающиеся в Египте случаи ракурсных изображений живых существ – музыкантш, рыб, зверей – кажутся более трудными для аналитической характеристики, чем прориси иератических росписей, стремившихся следовать тысячелетним канонам.
В данной работе мы ограничиваем рассмотрение проблем перспективы искусством Европы и примыкающими к античному Средиземноморью эллинистическими или романизированными землями.
Работы Б.В. Раушенбаха по перспективе представляют хронологически второй (в новое время), после трудов П. Реина (Милан, 1940) и Эрвина Панофски (1892-1968), значительный этап научного развития теории перспективы в живописи и, отчасти, в других изобразительных искусствах.
Книги Б.В. Раушенбаха, двигая науку вперед, помогают преодолеть тот зазор, который проявляется, то расширяясь, то суживаясь, между математиком – представителем "науки всех наук" – и художниками, а также исследователями по вопросам перспективы.
Исходным для термина "перспектива" мы полагаем слово "зрение" ("зрение вперёд"), то есть явление, а не учение о нём. Поэтому нам кажется устаревшим для исследовательской литературы возникшее во времена бурного успеха в изучении перспективы применение содержащего в себе оценочность, то отвергаемого (в качестве претензии на монопольность), то сплошь и рядом употребляемого Б.В. Раушенбахом даже к собственной работе термина "научная перспектива". Этот термин точнее было бы заменить термином "теория научной перспективы". Это было бы точнее к исходному (непереносному) смыслу слова "перспектива", как, например, слова "тяготение". Какие бы вклады ни делались в объяснение слова "тяготение", едва ли к нему целесообразно прилагать слово "научное". Естественнее было бы говорить о научной теории (объяснении) тяготения.
Сама "перспектива" – явление такого же порядка, как "зрение", "слух", "тяготение": в непереносном употреблении слова она может быть объектом, но не субъектом науки (во всяком случае, если в третьем тысячелетии не освоят компьютерное зрение и компьютерные картины как явление художественное само по себе, вне проблемы художественной одарённости).
Конечно, еще древние греки со времён Пифагора нашли особый термин для "науки о зрении" – катоптрика (коренное слово – "опсис" – зрение).
Для нас важно не только положение "глаз + мозг", но и появляющаяся возможность научно подходить к очень личностному, еще не выраженному языком математики или генетики вопросу, с которого начинается искусство, - какой мозг? – Мозг человека какой исторической эпохи, какой ступени развития искусства, какого культурного ареала, какого положения в обществе; наконец, самое главное: какой способности мозг? – от ординарной личности до художественного таланта, до гения…
К вопросу "какой мозг?" очень существенны неизвестные или полузабытые высказывания академика И.П. Павлова, его отношение к сословным или классовым перегородкам до и, особенно, после 1917 г. по поводу справедливого доступа к образованию каждого "выдающегося мозга".[2] Замечательно, что это определение применяется Павловым, великим физиологом, к людям, не получающим или ещё не получившим образование.
Бывали эпохи, когда общая культурная атмосфера создавала сравнительно благоприятные условия для "выдающихся мозгов", в том числе, не имевших возможности пройти систематическое образование, выращивала великие таланты и гении, например, в эпоху Возрождения и в XVII в.
Такими в высшей степени "выдающимися мозгами", которые в тогдашней художественно-интеллектуальной атмосфере охватили, воспроизвели, выразили весь мир, были, к примеру, Рембрандт с его незавершенным низшим образованием и посредственным профессиональным обучением у Питера Ластмана; таким был сам Леонардо да Винчи, который нигде не учился, даже латыни толком не знал, а профессиональную подготовку по скульптуре и живописи прошел только у Верроккьо, но развил свой прирожденный "выдающийся мозг", и помимо гениальных художественных произведений, создал такое "аристотелевское" множество трудов по физиологии, физике, математике, технике, что человечество за пять столетий не освоило всех его мыслей и проектов. И, наконец, Шекспир, который хотя и получил гуманитарные познания в духе наших дореволюционных гимназий, (что оспаривается некоторыми людьми, считающими его невеждой) своим "выдающимся мозгом" создал самые потрясающие и универсальные художественные произведения всего Нового времени.
После вопроса о значении павловского термина "выдающийся мозг" вообще в искусстве возникает более конкретный: как подходить - при наличии, конечно, желания – к возможности адекватного перенесения вида предметов, людей, пейзажей из трёхмерного пространства на двухмерное, то есть на плоскость.
С такими сложностями я столкнулся ещё в МИФЛИ, поскольку моя дипломная работа 1941 г., естественно, оставшаяся неизданной, была посвящена "Узловым моментам развития французской живописи XIX в. ", и я долго "бредил" проблемой перспективы при изображении у Сезанна горы Сент-Виктуар в Провансе. Рассмотрев позже воочию Сент-Виктуар и подивившись известным сходством её оттенков и ритма этой горы с любезным коктебельским сердцам Сюрю-Кая и её изображениями, я решил продолжить свои изыскания. (О них несколько позже).
Достаточно ли рассмотрено, как человечество теоретически или на деле стремилось сгладить эту антиномичность?
После книг Эрвина Панофски (1892-1968) и самого Б.В. Раушенбаха не устаревает ли в строгом смысле слова само понятие "перспектива" и связанная с нею задача переноса видимого (с учетом тех перцептивных понятий оптической физиологии глаз) на плоскость, на которой так убедительно и математически обоснованно настаивает Борис Викторович.
Ведь собственно слово "перспектива" имеет в виду именно это. Но это, в конечном счете, невозможно потому, что на расстоянии, кроме самого малого, наше зрение воспринимает картину не совсем как плоское пересечение идущих к глазу (глазам), хоть незаметную и практически ничтожно мало вогнутую к нам часть сферы. Для искусства изобразительного, а не выразительного – это вопрос вопросов.
Б.В. Раушенбах, конечно, особенно в своей книге "Системы перспективы в изобразительном искусстве: общие теории перспективы" [М., 1986], касается криволинейности, необходимой для объяснения перцептивного момента в перспективных построениях (см. с. 27-37 и там же чертежи и иллюстрации № 8 и № 9, с. 40-44, 156-157, 162, 176 и след.) Иногда кратко говорится о панорамной системе перспективы [там же, с. 65, 180] или о точечной структуре плоскости картины.
Я, находясь на развилке между математикой и филологией с искусствознанием (к сожалению или к счастью - не знаю), пошел по второму пути, и поэтому у меня несколько отличное воззрение на теорию перспективы. Споры по поводу природы зрения развивались со времён Пифагора (VI-V в.в до Р.Х.) и составили предмет особой дисциплины – катоптрики (коренное слово глаз – зрение – опсис) и относятся к вопросам, по которым прийти к окончательному решению не удаётся в течение тысячелетий.
В работах Б.В. Раушенбаха, на наш взгляд, всё-таки недостаточно уделяется внимания тому, что плоскость "экрана" (картины на холсте, на доске) – частный случай уже с математической точки зрения. Видимую картину можно представить на плоскости из-за её эмпирически малых размеров в ширину и высоту, а также потому, что люди не могут учитывать смутившее ещё пифагорейцев открытие и уловить то, что плоскость состоит из бесконечности точек сферичного вогнутого по отношению к художнику и зрителю пространства. Из-за подвижности головы и, конечно, глаз, из-за работы мозга мы в малой степени, но восстанавливаем в картине (легче всего в обширном пейзаже) её виртуальную, вогнутую по отношению к глазам как к центру, сферичность.
Чертежи из книги Б.В. Раушенбаха правильны, но они, скорее, объясняют и констатируют непреодолимые препятствия, стоящие перед художником, чем помогают решить ему, в какой мере он может с ними частично справиться.
Между тем, теория перцептивной перспективы как раз подсказывает возможности ослабить неизбежные погрешности не только за счет сформулированного и просчитанного Б.В. Раушенбахом перераспределения художником ошибок изображения путём осознанного или «автоматически» подсказываемого талантом переноса погрешностей изображения с важных для художника предметов на второстепенные за счет выбора угла, точки зрения, целесообразной дистанции и т.д.
Б.В. Раушенбах сам своей перцептивной теорией перспективы наводит на путь возможного облегчения задачи художника. Главное – это учет криволинейности сферичности (горизонтальной и вертикальной), особенно для верхней и дальней части изображаемого. Шагом к этому может служить, например, "неизображение", точнее, вывод за предел интерьерного изображения "верха" в виде горизонтального перекрытия, верхней плоскости "потолка", во всяком случае, без особой надобности и без особых приёмов, требующих системы искажения других параметров картины.
Пейзаж или изображение персонажей под открытым небом уже снимает часть трудностей восприятия. Мы так привыкли к вогнутой (к нам) сферичности вида неба и мозгового представления о ней, что даже небольшой фрагмент неба на картине инерционно перерабатывается мозгом в часть сферы.
Противоречие сглаживается, если "картина" представляет собой не плоскость, а невысокую (с малым углом от горизонта) длинную панораму, берущую на себя, благодаря своей закругленности, часть проблемы совмещения трехмерности и двухмерности, особенно если панорама (как Севастопольская) использует также круговую "сцену" для фигур ближних планов.
Данная работа – дискурсивный отклик на некоторые вопросы, поставленные в книгах Б.В. Раушенбаха, и мы в ней не должны (и не можем) излагать собственные взгляды на историю перспективных систем от Брунеллески, Альберти, Пьеро делла Франческа. Тем более, что в той части глав книг "Геометрия картины и зрительное восприятие". [М., 1994] и "Пристрастие" [М., 1997], где во многом подводятся итоги предыдущих рассуждений Б.В. Раушенбаха об иконописи и обратной перспективе, автор достигает такой завершенности продуманного, когда дальнейшие поиски кажутся не нужными и опасными в отношении утраты цельности уже достигнутого. Например, это глава 15 (в указанной выше книге 1994 г.) "Можно ли написать икону реалистично" или завершение главы "Как мы видим сегодня" (в указанной выше книге 1997 г.), в которой, особенно со с. 112, говорится о переходе от чернофигурных росписей греческих ваз к краснофигурным.
Мы хотели бы высказать заинтересованность в том, чтобы автор довёл бы данную работу до такой же математически точной разработанности, как та, что проявлена в отношении научного объяснения перцептивной системы перспективы изображений на плоскости, криволинейного изображения даже ортогональных объектов, изучения специфики изображения на вогнутой поверхности, и, в том числе, изображения сферических (выпуклых, вогнутых) фигур. Последний аспект не аналогичен вопросу о линзевой кривизне сетчатки, могущей проецировать изображение на плоский "экран" ("плоский", напомним, потому, что величина картины не сопоставима с кривизной земного шара). Однако, проекция на вогнутую сферическую поверхность усиливает перспективные возможности и способствует известному увеличению роли эстетического именно в перцептивной системе перспективы.
При расширении применения термина "перцептивности" в его соотношении с "объективным пространством" (познаваемым при помощи осязания, а зрением – при передвижении, в процессе практики, работе с предметами) могут возникать и известные сложности с расширением сферы эстетического по отношению к таким явлениям, как чертёж и, может быть, по отношению к генерализированной оценке свойств аксонометрии, касающейся геометрии объективного пространства.
Здесь приходится сделать некоторое отступление. В главе 12 книги "Геометрия картины и зрительное восприятие" [М., 1994]. Б.В. Раушенбах на с. 141 пишет: "Наряду с пространством зрительного восприятия существует и объективное пространство, в котором человек живет, но которого не видит". Автор, желая придать этому положению наглядность, связать его с практикой, поясняет, что "объективное пространство человек познает не с помощью зрения, а с помощью осязания", и приводит пример с рельсами, "которые на самом деле не сходятся, хотя и видны такими" (с. 14). Но как-то не верится, чтобы какой-нибудь железнодорожник согласился на практике провести такую игру в жмурки на вверенном ему участке или нанял слепого обходчика. Может быть, автор хотел сказать, что вне осязания и полученных практикой представлений субъектов по типу: "данные органы чувств + способность мозга к воображению" никакого зрительного пространства собственно не существует, а с ним и никаких видов неумозрительной перспективы тоже не существует.
Но нужно ли умалять роль зрения, раз вопрос стоит только об умопостигаемом по-разному в разных теориях физико-математическом пространстве-времени? С этим связана возможность говорить не столько о перцептивном пространстве, сколько об условном перцептивном восприятии этого умопостигаемого пространства-времени, а не об "объективном пространстве" и его "геометрии".
Известно, что сам термин "объективное пространство" был постоянным предметом философских дискуссий в отношении его условности, субъективности пространства, пребывания его как идея или как "вещь в себе" и т.д.; затем не совсем ясно, как быть с умозрительными (не "умоосязаемыми") многомерными концептуальными пространствами современной физики и математики, с которыми осязание имеет далёкую связь, если вообще оно её имеет. Едва ли читателю будет более или менее понятно соотношение указанных математических пространств и областей физических полей – гравитационного, слабого электромагнитного и сильного с некоим "объективным пространством, в котором человек живёт" (с. 141), (которое тоже не является "пространством зрительного восприятия"); всё это трудно увязать с проблемами линейной и сферической перспективы, остающимися для обычного человека главным средством связи с "реальными" и "концептуальными" пространствами и полями, в которых он "теоретически" живёт.
Кроме того, не сразу можно уяснить, как что-либо можно внятно воспринять без зрения другими чувствами – вкусом, обонянием, слухом – без их нервно-физиологической перцептивности. Даже если речь идёт о "первобытном" вульгаризированном материализме физиолога Якоба Молешотта, то и он в книге "Причины и действия в учении и жизни" (русский перевод. М., 1868 г.) в мышлении всё-таки видел и исследовал некий физиологический механизм. Даже в освоении "объективного пространства" допалеолитическим человеком играли роль в следующей последовательности (в отличие от некоторых животных) зрение и слух, осязание, обоняние, а вкус – меньше.
На грани III тысячелетия по Р.Х. с вступлением в период виртуальной архитектуры и других пространственных искусств роль зрения (конечно, не "слепого", а перцептивного) дополнительно возрастает.
Вопрос о зрительной перспективе (во всех видах) тоже сложнее, чем его себе представляют. Допустим, поставлены три высоких перпендикуляра (три и больше сверхвысотных многотысячекилометровых зданий) сравнительно недалеко друг от друга. С земли между ними, если угловое расстояние в градусах между земными радиусами (которые эти башни продолжают) не будет слишком значительно, они будут казаться сходящимися. Но так как их перпендикулярность продолжает разные (пусть близкие) радиусы земного шара, "на самом деле" они будут "разбегаться".
Эта апория останется (для нас) неразрешимой, так как возникает вопрос: на каком радиальном расстоянии эта перспектива сработала хоть бы так, чтобы снизу столпообразные здания казались до некоторой высоты сходящимися, а затем, по-видимости, "изгибались бы" и казались расходящимися. А пока представляется, что никакая перспективная система – ни одна из линейных (в том числе аксонометрическая) ни даже криволинейная или сферическая перспектива не смогут здесь передать "истинной перспективы", потому что геометрически таковой (если смотреть с земли) в данном случае не будет. Без математики не обойтись!
Вообще же, если говорить о небе не звёздном, и не о Божественном, а просто об атмосферном, основная информация приходила к людям со световым излучением (и менее определённая – тепловым). Положение это менялось медленно. Первый шаг сделал современник Шекспира Вильям Гильберт (1544-1606). Его работы ренессансного толка в области магнетизма совпали с появлением "Гамлета". В. Гильберт даже применил впервые (правда, в статике) слово "электричество". Дальше развитие понятия об "электричестве" и "магнетизме" пошло, главным образом, отвлеченно и умозрительно.
И чертеж, и родственная ему аксонометрия могут в разной степени применяться в художественном рисунке и в живописи, но станут художественными, только приобретя индивидуальную печать личного или коллективного сознания.
Очень хороший и наглядный пример частичных аксонометрий дают картины Павла Кузнецова (1878-1968) в "среднеазиатский" период расцвета его деятельности. В его "Ковровщицах" (1904 и 1907 гг.) юрты расставлены в долине по отдельности и в несколько "преувеличенном" аксонометрическом масштабе; ближние горы изображены в обычной линейной перспективе, а дальние – как эффектный далевой фон, поднимающий горизонт и напоминающий, что перед зрителем художник-эстет ХХ в., стремящийся не столько к правдоподобию, сколько к изящной выразительности пейзажа, намеренно выделенной декоративностью нежного колорита.
Наибольшие споры могут вызвать именно обобщенные суждения об аксонометрии как о "королеве" (а, скажем, не как о "краеугольном камне") перспективы. То, что здесь говориться, совершенно не умаляет самого положительного отношения к разработке этого Б.В. Раушенбахом (особенно в кн. 1994 г., гл.11 – "Локальные аксонометрии и перспективные эффекты"). Локальная аксонометрия, то есть относительно свободное расположение по отношению друг к другу правильных по отдельности аксонометрических изображений с разрывами между ними (см. в указанной главе схемы и рисунки; на другом материале, особенно 58, 59, 64 и весь текст главы 11 (с. 129-140)) в той или иной мере присутствует (во всяком случае в европейском и передневосточном искусстве).
Хотя автор Б.В. Раушенбах как математик полагает, что приводит довод в защиту мнения, "что во времена античности не знали центральной перспективы", он тут же как "невольный эстетик" отмечает, что суммарное действие локальных аксонометрий "создает интегральную схему изображения интерьера в прямой перспективе"… и "при сохранении в отдельных частях картины локальной аксонометрии как основы изображения приводит к своеобразному перспективному эффекту, к появлению прямой перспективы для картины в целом"! (с. 133; курсивы и восклицательный знак наши – Н.Б.).
А если так, то аксонометрия (пусть сама не "королева") – это ценнейший художественный модуль на манер дорической колонны в архитектуре, причем модуль, не имеющий собственной эсхиловской демократически-царственной красоты модулей дорического ордера, но модуль более универсальный как условная единица и пригодный к полифункциональному применению в основных системах перспективы, порой, как ряж, как главный устой.
Суждения о характере центральной перспективы в античности приходится выводить в условиях гибели знаменитых античных "картин", нам не известных , предварявших станковое искусство нового времени.
Ничего не сохранилось из произведений Полигнота, Паррасия, Апеллеса, Зевксида, которые, по свидетельству современников, писали так правдоподобно, что обманывались не только люди, но и птицы, слетаясь на изображенные ягоды.
Как ни наивны подобны отзывы, но они показательны. Индивидуальный талант художников высоко ценился: например, Александр Македонский доверял писать свои портреты только Апеллесу. Сохранились названия нескольких картин Апеллеса и суждения, по которым можно предполагать, что художнику были не чужды перспективные искания, пластика фигур, светотени и определённые колористические принципы.
В конце XV в. во Флоренции Боттичелли неоднократно посещала мысль представить картины Апеллеса: в результате этого на тему Апеллеса возникло "Рождение Венеры" – одно из чудес живописи Возрождения.
Из совсем отрывочных сведений можно заключить, что в VI в. до Р.Х. параллельно с освобождением от скульптурной статики (восходившей к торжественным египетским статуям), греческий художник Клеомен произвел подобную реформу в живописи. Примерно 70-100 лет спустя живописец Аполлодор Афинский, получивший прозвище "художник светотени", стал применять светотень и моделирование изображения человеческих тел (влияние этих реформ наблюдается и в помпеянской живописи); тогда же возникает проблема размещения фигур в пространстве. Есть свидетельства, что уже во времена Эсхила (первая пол. V в. до Р.Х.) появляется сценография, то есть первые декорации, подчеркивавшие глубину пространства, в котором происходят действия. Возникает термин "скенографиа" (засвидетельствованный Аристотелем) и понятие "скенограф" – "театральный художник"; более позднее "скенома" может иметь пространственное значение – "обиталище".
Об античной сценографии есть заметки, например, у Витрувия. Пытаться представить её значительность можно и "виртуально" – судя по качеству самих драм и по совершенству сохранившихся театров, вроде знаменитого эпидаврского: каковы же были сценография и игра греческих актёров, если амфитеатр (по своей задаче подсобное сооружение) столь невыразимо совершенен!
Сохранившиеся в Помпеях (и при некоторых других случаях) росписи и фрагменты росписей для Греко-римского мира были, по понятиям современников, третьестепенными. Но если учесть моделирование тел, свободу композиции и размещения персонажей, панорамность в группировке отдельных аксонометрий, в частности, по ту и другую сторону вертикальной оси (линии, предшествовавшей ренессансной точке схода) помпеянских росписей, они весьма выигрывают и, начиная со времени организованных раскопок 1748 г., кажутся замечательной страницей истории живописи и других пространственных искусств.
Зато едва ли можно принять безоговорочно суждение о том, что чертежная, то есть "объективная", а не перцептивная "точность" египетских изображений даёт им статус полноценного изображения.
Видимо, необходима какая-то дополнительная работа о чертежеобразности египетского искусства. Нельзя упускать из вида, что элементов чертежа не наблюдалось в часто весьма разнообразных и жизнеподобных цветных рисунках до 2800 г., до I династии Древнего царства. Эта живая подвижность сохранилась в изображении второго плана – работающих крестьян, служанок, танцовщиц, домашних и диких животных, птиц, рыб и т.п.; в изображении простых людей полно динамики, даны разные развороты тел, не обязательно сочетание профильности лица с разворотом плеч анфас, четко выступает динамическая характеристика разных полов, прослеживаются аналогии с грядущими эпохами, в которых появится "Добрый Пастырь" христианства, заботливо несущий на плечах ягненка.
О влиянии чертежного начала естественно помнить, говоря о ритуальном иерархическом искусстве, связанном с похоронами фараонов и знати. Здесь многое было расписано и сохранялось в течение 2500-2900 лет до эллинизации и романизации Египта. Правда, культ мертвых, во всяком случае знатных, был у египтян специфическим и символизировал после многих испытаний движение в "рай" и возможность воскреснуть с Осирисом. Поэтому, наряду со строгостью основного рисунка, канона, в принципе сохранявшегося тысячелетиями, он колористическим богатством и обилием персонажей походил на карнавал. Трудно представить себе (для не читающего по-древнеегипетски, а таких больше 99 процентов посетителей) более радостно сверкающее зрелище, чем залы Каирского музея, посвященные Древнему и Среднему царству. Мало того, и сохранившиеся помещения гробниц царей на левом "мертвом" берегу Нила сами не производят впечатление склепов с сухими чертежами на стенах, а пиршественное по богатству рисунков и колориту зрелище. Папирусы, которые клали в саркофаг с покойным, были, начиная с Книги Мертвых, первыми иллюстрированными книгами в Присредиземноморском мире.
В изображении на папирусе "Разделение Неба и Земли" бог, который олицетворял Землю, отмечен глинистым, зеленоватым цветом кожи и лежит в такой непринуждённо изогнутой позе, что мог бы вдохновить Бердоли, а аркообразно возвышающаяся над ним до верха папирусного ряда нежнотелая богиня Неба, вся покрытая множеством пятиконечных коричневых звёзд, при известном соблюдении профильности, являет свои женские достоинства – от физиологических и до акробатической легкости. Так же фигуры плакальщиц в погребальном склепе времён XVIII династии Среднего Царства, разнообразно протянув руки, представляют собой "изысканную балетную сцену".
Вероятно, египетские, наиболее чертежеподобные изображения, повторявшиеся в медленной эволюции неспешного торжественного иератического канона, не следует лишать связи с искусством, но надо отнести к совершенным формам прикладного (в значительно большей мере выразительного, чем изобразительного) искусства.
Особое внимание должно быть уделено повторяемости изображения фигур, их положений и, отчасти, колорита рисунка важнейших персонажей – богов, фараонов. Эта повторяемость, порой измеряемая тысячелетиями, выводила их из категории образов и приближала к категории знаков иероглифического письма. Повторяемость позволяет выделить в каноне нечто близкое чертежу. Египетский канонический рисунок сравним с устойчивым рядом украшений верхней половины дорического антаблемента, состоявших исстари в чередовании триглифов с вертикальными бороздками и метопами (иногда со скульптурными рельефами или росписью); он также сравним с орнаментами, с карнизами, с ближневосточными коврами – проходят столетия, а в Туркмении ковры племени йомуд с первого взгляда отличаются от текинских по устойчивому рисунку тех и других.
Такое сравнение устойчивости прикладной орнаментальности, знаковости и аксонометрии не содержит упрёка им, а указывает, как пишет сам Б.В. Раушенбах, на то, что эти формы не сообразуются с приложением к ней законов перспективы.
Правда, в период устрожения классицистических правил в конце XVIII столетия случалось, что слово "импроспеттивико" ("неперспективный") приобретало оценочный негативный характер.
Но вопрос этот сложен, и объективно-пространственность самих чертежей, допустим, Кваренги – периода его хорошо известной в России деятельности в Санкт-Петербурге – воплощалась в сугубо эстетическом, перцептивно воспринимаемом и оцениваемом ряде в суровых зданиях Академии наук (напротив Адмиралтейства) или Смольного института.
В сущности, в истории искусства единичны случаи, когда произведения идеально подходят в любом ракурсе[3] для аксонометрического рисунка, чертежа и разных систем живописи. Это египетские пирамиды III-II тысячелетия, самые крупные и известные из которых построены на квадратном основании четырехгранника, с ребрами, сходящимися к вершине под углом 42-44 градуса так, что этот угол со всех позиций (исключая непредусмотренные – взгляд в упор на огромное сооружение или взгляд с высокого птичьего полета) вырисовывается в перцептивной перспективе, завершенный прямым углом, что находится в предельно близком отношении с осязаемо-объективным измерением.
Едва ли можно утверждать даже применительно к канонической египетской живописи с её спецификой, тенденцией к ортогональности и целым рядом условностей, что перед современным инженером и древнеегипетским художником фактически стояли одинаковые задачи ("…речь идет, конечно, - продолжает Б.В. Раушенбах на с. 145 книги 1994 г. – не о художественном образе, а о методах изображения геометрии объективного пространства на плоскости картины" (курсив наш – Н.Б.). Нам кажется, что в этом высказывании заключено спорное положение: перед обычным инженером-строителем не может стоять та же задача, что и перед архитектором-художником, конечно, также думающем о многих технических особенностях сооружения, которое проектирует, но, прежде всего, о полноуспешном выражении художественного образа.
И может ли быть, что перед строителями обычных доходных домов 1820-1840-х г.г. в Петербурге (в которых 30-40 лет спустя жили герои Достоевского) "стояли одинаковые задачи", что и перед К.И. Росси, когда он строил в то же время новое здание Александринки (1832 г.) – величайшее архитектурное произведение в России XIX в., если не во всём мире; конечно, я имею в виду своё мнение.
Соединив две диагонали, - пространственную и литературную – можно допустить, что результаты строительства доходных домов 1830-х г.г. столь же соответствовали миру героев Достоевского, сколь Росси в достигнутой им в то же время гармонии выразил мир лирики Пушкина.
* * *
Время сделать замечания о терминах, связанных со сферической, криволинейной и плоскостной "спективами". К ним не целесообразно настойчиво употреблять ограничивающее понятие "перспектива" (буквально: "вперёдсмотрение"). Круговую обзорную "спективу" точнее называть "циркумспективой". Циркумспектива наиболее приближается к "перспективе" при направленном (с осторожностью можно сказать: утилитарном) взгляде на изображаемый объект.
Перспективная форма циркумспективы в искусстве живописи проявляется (в условиях бескорыстия изображающего) при сосредоточении внимания на человеке, на группе людей, на важном предмете лучше в пределах тех 30 градусов, которые при относительной неподвижности может охватить и изображающий и созерцающий.
Здесь желательна рама не только слева и справа, но и сверху и снизу. Эта перспективная форма циркумспективы предполагает центр (или хотя бы небольшой круг схода лучей) и в том, и в другом случае близ горизонта или линии, параллельной горизонту. На практике она терпит и несколько центров схода.
Такие подходы, которые вообще не имеют в виду изображение трёхмерности пространства или отказываются от такого изображения целесообразнее назвать "дюсспективой" (термин разъясняется ниже).
Находясь в переходе, представляющем собой коридор в форме правильного удлинённого параллелепипеда со строго прямыми углами и линиями (без каких-то изгибов), убеждаешься, что в обычной линейной перспективе его можно увидеть (и изобразить) только смотря снаружи или с края. Внутри, какую позицию ни выбрать, - прямые линии и плоскости будут перспективно сходиться в одну сторону и в другую противоположным образом, образуя между собой широкий угол, который покажется наблюдателю искривлением. Выход, далёкий от наблюдателя, будет казаться меньше; тот, что ближе, - большим, а все координаты сечения там, где наблюдатель стоит, максимально большими: то есть все четыре плоскости коридора представляются искривлёнными.
Если такой коридор-переход никак не украшен (ни просветами, ни пилястрами, ни арками, сводами и т.п.), да еще длинен, то несоответствие видимого и предполагаемого, путаница геометрической прямолинейности и видимой криволинейности может психически угнетать, вызывать кафкианские тюремно-бюрократические давящие ассоциации.
Иное дело, экстерьерное пространство – предмет циркумспективы (сферической перспективы) – простор, ассоциирующийся, как любил отмечать Д.С. Лихачев, с царством воли.
Восприятию такого в интерьере соответствуют укорочение продольной оси пространства, приближение его к квадрату (или к так называемому "греческому кресту"), то есть делающее пространство и виртуально и инженерно-геометрически вписывающимися в круг.
Закруглённые покрытия пространства полусферой, например, куполом или высокими сводами, закруглёнными или ребристыми, даже стрельчатыми, оживляются по продольной оси закруглённой колоннадой, апсидой, или другим видом ниши (например, - михрабом).
Само преобладание в восточнохристианской (Византия и её ареал в широком смысле от Сицилии до Армении) теоцентрической циркумспективной тенденции (в архитектуре, мозаике и т.д.) как и преобладание на ренессансном западе антропоцентрической (что и в первом и втором случае тесно переплеталось в свете идей о богоподобии человека) во всём строе мыслей пространственно-художественном начале у Брунеллески, Альберти, Браманте, братьев Сангалло, Леонардо, Рафаэля, Микельанжело показывает преобладание циркумспективного видения в периоды расцвета искусств.
Циркумспективная потребность сферического видения, связи с окружающей сферой компенсировались в греческих и римских параллелепипедных храмах тем, что основная площадь была связана с миром просветами между колоннами храма; впоследствии в готических и ренессансных храмах просветы компенсировались большими и высокими окнами.
Причем во всех перечисленных конструкциях в явной или менее заметной форме большую роль играла криволинейность.
Ведя беседу обо всём этом, мы хотим напомнить, что многие главы, например, в новых книгах Б.В. Раушенбаха, продолжающих его предшествующие работы об иконописи [Пространственные построения в древнерусской живописи. М., 1975; Пространственные построения в живописи. М., 1985], особенно убедительны и в некотором смысле неоспоримы. Опираясь на выводы Дионисия Ареопагита, что "при изучении путем логики сущности Божества можно сформулировать лишь то, чем Оно не является, в то время как на пути созерцания можно получить и положительное знание о Нём!.. в красоте созерцаемых вещей "просвечивает" высшая красота Творца" […] Их "надо видеть не только такими, какими они являются в повседневной жизни, но и в качестве метафор высшего бытия. Они, следуя Дионисию, являются неподобными отображениями Божества… помимо своего обычного смысла, предметы могут иметь и иной, высший смысл" (кн. 1994, с. 211-212; курсив наш - Н.Б.).
Поэтому изображенные на основе обратной перспективы близкие предметы с установкой на то, чтобы признаком глубины служило перекрытие (передними фигурами задних), ведут к тому, "что вместо чувства глубины, уводящего за плоскость картины, возникает чувство своеобразного наплывания показанного пространства на зрителя. Чтобы усилить это ощущение, иконописец, вопреки естественному зрительному восприятию, нередко передает даже здания второго плана в обратной перспективе" (там же, с. 210. Курсив наш – Н.Б.).
На этом основании Б.В. Раушенбах справедливо показывает различие самодовлеющих задач иконописи и ренессансного искусства.
Но пример, приведенный для демонстрации этого правильного тезиса, – гравюра Дюрера "Успение" (1510 г., см. с. 215-216) – не полностью согласуется с высказанным выше. Взята гравюра Дюрера на дереве, несшая специфический след средневековой заальпийской готической традиции и могущая показаться слишком внимательной к внешним мелочам. Но и о рассматриваемой гравюре нельзя сказать, что здесь высший смысл перестал быть непосредственно созерцаемым. Мы, применительно к специфике Возрождения и, в частности, к специфике религиозного искусства именно этой эпохи, в 1990-е гг. стремились в двух работах – "Соотношение идеального и жизненно-реального в художественных системах Ренессанса и XVII столетия как критерий разграничения этих систем" (Изв. РАН. Серия литературы и языка. Т. 52, № 1, 1993) и "От Оригена к Достоевскому (надежда на возможность конечного спасения и её проявление в литературе и живописи") в кн. "Русское подвижничество" [М., 1996] показать, что постоянное движение между реальным и идеальным – специфическое отличительное свойство искусства Возрождения. Связь со Св. Писанием и идеями отцов церкви придали ренессансному искусству удивительную черту постоянного движения от небесного к земному и обратно (ср. слова Шекспира во "Сне в Иванову ночь", акт V, сц. 1, стих 12-13, произносимые Тесеем: "The poet´s eye… Doth glance from heaven to earth, from earth to heaven") и обеспечили особое место в истории искусства.
Расхождение небесно-идеального и земного стало появляться в религиозной живописи Караваджо вместе с тенденциями новой художественной эпохи в XVII в. То, что Б.В. Раушенбах отнес к гравюре Дюрера [кн. 1994, с. 215], было бы оправданным по отношению к луврскому полотну Караваджо, называемому не "Успение", а "Кончина Св. Девы". Там на огромном полотне от смысла Успения остался только взмывающий к небу или спущенный с неба алый занавес, должно быть, символизирующий дивные слова тропаря: "…во Успении мира не оставила еси, Богородице… и молитвами Твоими избавляеши от смерти души наша"… Сама Богоматерь изображена, как покойница из простого люда.
В первой из названных выше своих статей мы обосновывали разделение Ренессанса в художественных направлениях XVII в. на 1) пикарескно-бытовое и караваджистское; 2) классицизм XVII в.; 3) барокко; 4) суммирующее художественное направление XVII в. (the summarizing trend). В статье было особенно остановлено внимание на этом четвёртом направлении, к которому мы относили наиболее глубокие произведения позднейшего (послеримского) Караваджо, Тирсо де Молины, Дж. Донна, Мильтона, Мольера, конечно – Веласкеса и Рембрандта, а также Вермеера, Я. ван Рейсдаля.
Разбирая одно из последних и самых великих произведений Рембрандта – "Блудный сын", – мы отметили, что "высший смысл" притчи о блудном сыне не исчезает, но в новую эпоху преобразовывается у Рембрандта в направлении глубокого, анатомического, более индивидуального понимания и выступает не во встречном движении жизненно-реального, а в еще более сложном надрывно-трагическом синтезе. [Соотношение идеального и жизненно-реального в художественных системах Ренессанса и XVII столетия как критерий разграничения этих систем // Изв. РАН. Серия литературы и языка. Т. 52, № 1, 1993; с. 21-24].
Что касается эпохи приближения Возрождения (Проторенессанс), тенденция к высшему смыслу, к вере в Спасение обыкновенно остается в уже сочетающих Средневековое и Ренессансное не полностью гармонически (как Джотто) в итало-византийских центрах культуры, таких, как Рим, Сицилия, Венеция, на рубеже XIII и XIV столетий. Может быть, еще ближе к ренессансной гармонии двух начал подошел менее известный современник Джотто, работавший в Риме, Пьетро Каваллини. В его росписях в монастыре Св. Цецилии в Риме ("Страшный суд") ангелы еще вполне ангелы в высшем смысле, но лица их, данные в ренессансных смелых ракурсах, уже совсем не лики, а вдохновенные лица новых людей. Мозаики его традиционней; например, в Богородичном цикле Каваллини в мозаике "Введение Богородицы в храм" (в крупнейшей за Тибром, после Св. Петра церкви в Санта Мариа ин Трастевере), наряду с опытами, поисками линейной перспективы, есть поразительные образцы не только ренессансной гармонии идеального с реальным, но и видны неслыханные до того времени перспективные достижения. В церковных мозаиках, растянутых в длину, еще встречаются рядом с удавшимися перспективными опытами отдельные разноперспективные эпизоды. Но в центральном эпизоде, во "Введении", преодолены трудности с помещением Мадонны-ребенка относительно кивория, а сам алтарь на мозаике расположен так, будто не через столетие, а уже тогда стучались в двери собора Брунеллески, Мазаччо, Ян ван Эйк…
Важен и вопрос об изображении, когда сама картина образует вогнутую полусферу или часть её, как в куполе, его парусах в полукруглом своде апсиды, в распалубках внутри сводов, в протяженных помещениях и даже в междуарочных сводах, в неглубоких боковых нишах.
При этом сильно действует инерция перцептивной перспективы, обоснованная Б.В. Раушенбахом. В надалтарном полукружии изображение в церковной апсиде (даже на плоскости) воспринимается как небесная сфера, а не как плоскость. Не очень важно, какой фон у этого изображения – прямо намекающий на небо, синий со звёздами, или с более условной духовной ассоциацией "абсолютно" золотой. Он прежде всего воспринимается в полукружии апсиды как обозначение бесконечности, из глубины которой являются Господь, Богоматерь, святые.
В какой-то мере условная перцептивная закруглённость верхних углов (да и нижних, если они кем-то или чем-то закрыты) слабо наблюдается даже в обычной комнате. При обычном дневном освещении верхние углы (особенно рядом с окнами) и даже противоположные бывают освещены меньше остального помещения, и взгляд по системе глаз + мозг "проскакивает" их, как бы закругляя (См. ниже о картине Репина "Не ждали"). То же самое действительно и для доэлектрического ночного освещения. Может быть, в числе других соображений, иконы с поблёскивающими ризами и лампадой помещали в углу, чтобы выйти из обступающей сферы темноты и не остаться совсем без света и как бы без Бога (см. обозначение ужаса жизни sin Dios ("без Бога") в поздней драматургии Лопе де Веги). Да и в современных условиях при общении людей в креслах, за столом – обеденным или письменным – комната видна, если специально не вглядываться, скорее, не как параллелепипед, а как смутно вырисовывающийся овоид.
В этом отношении интересен (на стр. 60-62 книги 1986 г.) анализ Б.В. Раушенбахом картины Репина "Не ждали", её воспроизведение и прориси 1986 г. Прорись не совсем точна. Верхняя горизонтальная линия схождения задней стены с потолком не перпендикулярна на картине, как на прориси, по отношению к вертикалям углов, а слегка наклонена налево. Сами вертикали углов никак художником не обозначены и как бы утоплены в размытом колорите. Углы потолка на картине не равны друг другу и настолько превосходят формальный, аксонометрический прямой угол, что создаётся впечатление не прямоугольного, а части многоугольного, кажущегося закруглённым, помещения. Чтоб убедиться в этом, достаточно закрыть картину чуть ниже потолочной линии.
Воображаемое многоугольное пространство (и без ребер многоугольника) подтверждает наблюдения о тенденции к округлению углов, потому что размытый n-угольник направляет сознание зрителя на представление о закруглённом помещении. Не следует предполагать ошибки художника, как это правильно замечает Б.В. Раушенбах по поводу некоторой размытости точки схода, превращенной в область (круг) схода; это - "вполне рациональный прием" (с. 60).
Картину можно объяснить в двух словах, но художник остановился на моменте неопределённости, когда пересечение взглядов и растерянное продвижение главного персонажа даёт простор для сомнений, а не для однозначного решения зрителя.
Обычно не обращают внимания на искривлённость интерьерных перспективных линий. Достаточно представить себе самый банальный случай. В современной спальной комнате с окном на торце при простом сочетании стен параллелепипеда (одна единица – оконная стена и две – перпендикулярная к ней заглублённая). Человек, лежащий на тахте, допустим, на расстоянии одной четверти или одной трети глубины комнаты от окна (это всё равно) будет видеть потолок не в прямых линиях и не как перспективно суживающуюся трапецию, а криволинейно. Линия между потолком и стеной, у которой он лежит, будет суживать ширину и высоту назад по направлению к оконной стене, а если он переведёт взгляд в сторону против окна, еще сильнее (так как этот отрезок стены длиннее) сузит ширину помещения. Указанная линия для субъекта внутри помещения будет казаться искривленной, причем под таким широким углом, что без особых усилий он не найдет вершины угла. Эта линия, а с ней и все остальные и в принципе ей параллельные тоже для человека, находящегося внутри простейшего правильного параллелепипеда, искривятся.
Отсюда можно сделать далеко идущие выводы:
1. Аксонометрическая перспектива и её модели не применимы для передачи интерьера;
2. Художник, кроме случаев с дюсспективой или с обратной перспективой (например, у иконописцев), должен либо имитировать ситуацию, когда он вне помещения, или у самой "входной" стены, либо допустить искривление линейноперспективных линий, то есть изображать удлинённый параллелепипед с искривленными более или менее бочкообразными боковыми поверхностями (а также потолком в зависимости от высоты, на которой он мыслит находящимся свой глаз).
Отчетливый пример, когда художник пошел навстречу всем этим требованиям, явил Николай Сапунов в небольшой картине "Бал" (1910). Бал смотрится анфас со значительного расстояния и высоты (например, с хоров) в двух плоскостях: в верхней, с закругленной задней стеной декорированной зеленоватыми малахитовыми ионическими колоннами или пилястрами, к которой ведут две широкие парадные лестницы, и в нижней, на которой и находится большинство беседующих или танцующих. Перспектива верхней части картины образует длинную, вогнутую для зрителя картины дугу, а нижняя часть – более крутую выпуклую дугу. Криволинейность вовлекает смотрящего в праздничную атмосферу сияющего яркими красками бала.
Интересно, что архитектурная перспектива картины Сапунова как будто воспроизводит реальную архитектуру построенной в Париже архитектором Ж.-Ф. Шальгреном (1739-1811) церкви Сен-Филипп-дю-Руль (близ ул. Сент-Оноре). Архитектор, вообще строгий неоклассик (ему принадлежит проект и начало постройки знаменитой 50-метровой Триумфальной арки в Париже), откликнулся на соображения об интерьерной криволинейности и обстроил алтарную часть высокой апсидой во всю ширину колонн. Видел ли Н.Н. Сапунов церковь Сен-Филипп или изображение её алтарной части, мы не знаем, но, если не видел, проблема интерьерной криволинейности выступает еще ярче.
Вопрос о криволинейности в изображении объектов и разработка способов воплощения сферичности в рисунке, живописи до обоснования перцептивной стороны зрения Б.В. Раушенбахом бывал даже опасным. Больше всего, кажется, из-за применения кривых в перспективе поплатился французский художник-гравер Абрам Босс (1602-1676). Это был известный специалист по жанровым сценам, близкий Жаку Калло и братьям Ле Нен.
Босс противостоял парадному, поддерживавшемуся двором направлению жестокого "ригидного" классицизма в живописи, представленному главным придворным художником Шарлем Лебреном (1619-1690).
Министр Людовика XIV Кольбер и сам король назначали его на все возможные должности "по управлению искусством", поручали ему роспись главных залов Версаля и т.п. (Это Лебрен отсоветовал поручить Бернини заказанный тому проект перестройки Лувра).
Когда в 1648 г. была учреждена Королевская академия живописи и скульптуры, Босс был включен в нее. Но после написания в 1665 г. книги "Руководство по практической геометрии в перспективе" ("Traite des pratiques geometrales et perspectives") и других трактатов об уточнениях в линейной перспективе в духе учета криволинейности Босс был изгнан из Академии. Несоответствие жанровых сценок Босса величавости, требуемой монархом, терпели, но покушения художника на догматически представленную, окаменевшую при Лебрене теорию перспективы – нет. Несмотря на обращения и просьбы к Людовику XIV, король не восстановил Босса в Академии. Едва ли король мог разобраться в проблеме кривых линий в ренессансной перспективе. Должно быть, Лебрен подсказал мысль, что вина Босса заключалась в том, что он, во избежание искажений зрительной пирамиды классической перспективы, предлагал в известных условиях строить точки, передающие предметы в зрительной пирамиде, не на плоской поверхности, а на поверхности, вогнутой по отношению к глазу.
Случай об изгнании из Королевской академии за поиск возможных сферических поправок в системе перспективы, конечно, поучителен. Но, представляется, что поиск Босса уложился бы в исследовательском поле, созданном перцептивной проблематикой и его взгляд мог бы в этом поле показаться более простительным и даже связанным с тем импульсом, который современный математик придал сложным исследованиям в области перспективы.
На пути решения вопроса об отношении перспективы и сферической "циркумспективы" стоят два рода препятствий. Одно из них, более частное, связано с тем, что вопрос о теоретической вогнутости может не возникать в эпохи преобладания выразительности в искусстве над его изобразительностью, когда вопрос о подобии рисунка и колорита, вообще о подобии изображаемого изображенному и о стремлении к неизломанной передаче трехмерности пространства часто просто снимается художниками. Мы прибегаем не к латинскому префиксу "dis", обозначающему "разделение", "разъединение" (сравнить вошедшее в русское словоупотребление, особенно в математике и физике "дискретный": одного корня с "различать" "cerno": "замечать", "видеть", "узнавать"…), а к родственному, но более энергическому греческому префиксу "ςνσ", отрицающему положительный смысл слова, например: "дюс-эйдейа" ("безобразие" от эйдос - "образ", "красота"). Тем самым, "дюсспектива" – отрицание основных перспективных задач: пространственности, подобия контуров и подобия цвета.
Это отнюдь не означает "безобразия", но свидетельствует о расхождении с господствовавшими в Греко-римской античности и в европейском искусстве с XIII в. до конца XIX в. принципами изобразительности.
Такое "дюсспективное" искусство расцветало уже на ранних стадиях культуры (дивное кикладское "геометрическое", почти ортогональное ваяние). В какой-то степени оно закреплялось во время христианского иконоборчества, а особенно в результате запрета "значащего" изображения мусульманством. Кроме того, "дюсспектива", как правило, царит в декоративных видах искусства: в орнаментах, на коврах и пр. даже в эпохи преобладания изобразительности.
В новой европейской культуре свободноплоскостная "дюсспектива" закрепляется у части станковых художников параллельно с поисками Сезанна, Ван Гога и под влиянием практики и "поздних" – конца 90-х и самого начала 1900-х гг. – суждений Поля Гогена о картине как, прежде всего, о натянутом холсте (или доске), окрашенном произвольно красками, так же произвольно избранными: например, самыми контрастно яркими. Эта доктрина и практика повлияла на фовистов и Матисса в смешанной, несколько более сдержанной форме, но не доходила до крайних форм во многих вещах Матисса, у Шагала, у Гончаровой, да и варьировалась у Магрита и Дали, когда они не очень сюрреалистически "озорничали", а последний вдруг вспоминал родной Фигерас.
Иногда с вольными имитациями трехмерности "дюсспектива" претендовала на усложненно-упрощенную, очень условную передачу многомерности (например, три носа, два профиля, распластывающих изображение лица и т.п.). "Дюсспективные" направления обусловили переворот в сторону "произвольного неподобия" у множества художников, особенно после создания "Авиньонских девиц" Пикассо и разъяснения этого сдвига поэтом Аполлинером в 1907-1908 гг. С тех пор жизнеподобная живопись, кроме "лепета" примитивистов, стала терять в глазах многих знатоков-эстетов художественную ценность, несмотря на то, что это могли быть Клод Моне, Дега, "половина" Ван Гога, "девять десятых" Врубеля, поздний Серов, Левитан, Нестеров, Корин, Кузнецов, Богаевский, Сарьян.
В России это могли быть такие скрыто "модерные" полутрадиционалисты, как Александр Бенуа и другие изысканные мирискусники. Таким по-разному бывал в разные периоды Николай Рерих (особенно в неповторимом образе древнерусского мироздания в Киевском музее, где посреди "обособленности" символического, крутого, ярко-зелёного земного шара твердо, так, что его тщетно пытаться сдвинуть с места, стоит небольшой, но отовсюду видный, по-псковски коренастый храм), будто Рерих в этой смелой дюсспективе хотел прямо предварить идею Тенгиза Абуладзе: "На что дорога, если она не ведет к храму…".
Подобная антиномия между "сущим" и во что бы то ни стало "свободно чаемным" живет в перцептивных геометрических и воздушно-цветовых спективах эмоционально насыщенных ландшафтов некоторых современников Рериха.
Большая группа художников – ровесников в пределах 1870-1950-х гг. – особенно среди пейзажистов, отдавала дань сферической перспективе как поиску приближения неба к земле. Во Франции с ее особенно бурной художественной жизнью, сменой влияний на пейзажистов, говоря приблизительно – сначала фовизма, потом Сезанна, затем явственно – авангардизма в разных формах, а затем, в 20-е годы, возвращения к более музейному варианту вроде затушеванного Коро; такой путь проходили и Дерен (1880-1954), и Вламинк (1876-1958), и более спокойный Марке (1875-1947). Их пейзажам свойственны наплывы сумрачной тональности; в картинах встречаются деревья, простершие более или менее обнаженные ветви к небу.
В России путь был прямее: индивидуальное страдание превращалось в общее, соборное; вытянутые в хаотически криволинейных сплетениях ветви растворялись, таяли в сумрачном небе, сумрачные холодные воды северных озер и морей слабо, но отражали скромные розово-лиловые блики серых облаков – пейзаж становился скорбной, но не отчаянной молитвой.
Тут, прежде всего, может быть назван один из самых лирических пейзажистов – Витольд Бялыницкий-Бируля (1872-1957). В некотором роде он, по-своему трансформируя, продолжал традиции "пейзажа настроения", часто возникавшие у Левитана, когда последнему удавалось преодолеть "основательность" XIX столетия (например, в таком потрясающем полотне 1894 г. "Над вечным покоем").
Бялыницкого-Бируля привлекало не только изображение печальных (но сущих!) кривых дорог в зарослях родной Белоруссии, но и создание лирических пейзажей, с виду почти монохромных, но наделенных приглушенной и разреженной гаммой красок врубелевской Царевны-лебедя.
Большая серия сумеречных вёсен и осеней Бялыницкого-Бируля, с чернеющими среди только выпавших или талых снегов речками и изредка с покосившимися избушками, таит в себе чуть выраженные, но на этом фоне достаточно убедительные цветовые и световые пятна недоопавшей листвы или полоски света над горизонтом – знаки внутренней силы и надежды. Для кого? Для России, для (неизображенных) колодников, бредущих по Владимирскому тракту… и для многих других…
И осиротевший со смертью Л. Толстого яснополянский регулярный парк, и остатки заброшенных после революции усадеб поданы художником в грустном сочетании чуть лиловеющего серого с приглушенным, но так искусно и нежно подобранным зеленовато-оливковым цветом, а иногда и с "минутным" проблеском того, что все это шуршанье криволинейностей тонких, чуть ли не прозрачных мазков ассоциируется не с обреченностью, а с красотой, вдохновляющей надежду.
Бялыницкий-Бируля не был связан с нежным, мистическим символизмом Голубой розы, а скорее скромно представлял некий внешне неяркий русский импрессионизм. Но художник оказался более стойким когда-то близкого Голубой розе Николая Крымова (1884-1959), уже с начала 1920-х гг. совершившего ретроградный шаг к передвижникам XIX в. и ставший писать пейзажи полдневной олеографической звучности колорита, как бы переигрывающей почтенного Куинджи, или предваряющей однообразную яркость сувенирных открыток второй половины ХХ в.
Бялыницкий-Бируля много позже стал в некоторых заказных картинах порой поддаваться слепо "оптимистическому" световому давлению социалистического реализма.
Наряду с Бялыницким-Бируля, Волошин (когда в 20-е гг. поэту "замкнули уста") сумел сохранить в своих изысканных коктебельских акварелях, где земля и море почти полноправны небу, аромат неувядающих лепестков Голубой розы, контрастировавший с тяжелыми годами "страшной истории России".
Само постоянное взаимопроникновение земного и небесного было не только связано с геометрической сферичностью, но и создавало рисунком и колоритом внутрисферовую воздушно-перспективную перекличку.
Для многих художников, работавших в начале и в середине ХХ столетия, характерна обусловленная временем непредсказуемость и принципиальное разнообразие манер, чередование содержательных, необходимых художнику поисков. У Мартироса Сарьяна горы могут быть декоративно условноцветными, служить широким изогнутым пространством пестросолнечной жизни, а в страшный для Армении год османской резни вдруг обрести устрашающую реальность. Именно по каменистой долине таких суровых гор справа налево, разогнавшись вниз, несется "Крылатый конь". Он пока поджимает белые крылья и не летит, но зато символичен своим разгоном и тяжелой неукротимостью скакания. Тут Сарьянов конь вдруг напоминает романтиков-реалистов XIX в.: например, "Бросок артиллерии" Домье (Новая Пинакотека, Мюнхен) и динамику самого Делакруа…
Но ведь изобразительное и выразительное сочеталось у самого "классика классиков" второй половины XIX в. Эдуарда Мане, создавшего новую живопись, но и широко использовавшего воскрешенную им традицию великих испанских живописцев конца XVI-XVII вв.
Мы не случайно назвали здесь и "целых" художников и их "части". Иногда при ясности вхождения всех спектив в перцептивную вопросы о perspectiva naturalis, о плоскостной дюсспективе и о кубистических тенденциях в спективах столь сложно сплетаются в искусстве XIX-XX вв., что разобраться в этих запутанных вопросах до сих пор затруднительно.
Как быть, например, с Полем Сезанном (1839-1906)? Б.В. Раушенбах посвящает ему страницы 50-55 книги 1994 г. и почему-то, обращаясь к "дораушенбаховским" взглядам, утверждает на примере нескольких пейзажей Сезанна, что "претензии ренессансного варианта системы научной перспективы быть эталоном абсолютной правильности перспективного рисунка (без учета работы мозга) лишены всякого основания" (с.50). Но эта аксиома, уже доказанная, и категоричность слов "всякого" основания избыточна, как избыточно утверждение о "претензиях", имеющихся у абстрактного понятия. Этот нажим вызван полемикой с явно устаревшей работой F. Novotny, где все отошло в прошлое, начиная с понятия "научная перспектива" и заглавия "Cezanne und das Ende der wissenschaftlichen Perspective" (Wien, 1938) и подобной этой работе книге Э. Лорана о принципах композиции у Сезанна (изд. Калифорнийского ун-та, 1943).
Ведь при вынужденной рутинности советской науки Сезанн давно квалифицировался по ведомству "модерного" ("упадочнического") искусства и выставлялся именно в таком качестве в музеях. Его даже не стали разбазаривать, как стоящих "дворянских", "буржуазных" и еще "каких-то" Рафаэлей, Тицианов, а особенно любезных покупателям за дешевку Рембрандтов.
На самом деле художник в любой сознательно им изменяемой спективе – а Сезанн относился именно к таким – или в потоке менявшейся спективы в принципе не мог выйти из перцептивной системы. Ведь без мозга глаз вообще не видит (на этом справедливо настаивает сам Б.В. Раушенбах). Но уровень перцептивных изменений менялся не только от эпохи к эпохе, но и от степени художественной настроенности и подготовленности, от работы (припомним определение Павлова – выдающийся мозг!) мозга.
На рис. 23 (с. 55) у Б.В. Раушенбаха показан контур горы Сент-Виктуар (излюбленного пейзажного мотива Сезанна в два разные периода его жизни) с большой дистанции в трех вариантах: 1) на фотографии (площе всего); 2) на конкретной прориси картины Сезанна (круче всего); 3) как "соответствующий естественному зрительному восприятию" (средней высоты).
Эта последняя категория более оспорима (как некое среднее), чем две других, подтвержденных документами. Глаз + мозг местного обывателя или усталого, спешащего проезжего едва ли мог оценить Сент-Виктуар с той же интенсивностью, чем это было возможно у любознательного туриста, либо у человека, сопоставляющего гору с воспоминанием о ее изображении Сезанном, либо у неожиданно вышедшего из-за поворота, внезапно увидевшего ее или, наконец, увидевшего давно ожидаемое. И, конечно, иначе, если зритель одаренный художник-пейзажист. То есть в системе глаз + мозг важно и то, какой мозг, и то, как настроен мозг.
Автору этих строк некогда пришла легкомысленно смелая мысль разобраться в дипломной работе (1940-1941 гг.) в узловых моментах развития французской живописи XIX в. Высказывания Бодлера, Делакруа, Ван Гога, Гогена, Сезанна, обобщение идей трех последних в книгах Мориса Дени и других, воспринимались в условиях библиотеки ("Дубовый зал") еще не разрозненного Музея нового западного искусства на Пречистенке, прямо в сердце музея, позволявшего проверять вживе вычитанное или продуманное.
Сезанн в своей живописи и в своих высказываниях тогда особенно занимал меня труднообъяснимостью и тем, что был единственным, кроме Бодлера, на кого можно опереться в мысли о синтетической миссии Домье-живописца, в известной мере соединявшего великого Делакруа с тенденциями, выраженными в серьезных работах Курбе. Смотришь (тогда в репродукциях) луврских "Игроков в карты" Сезанна и видишь, что никто, даже сам Мане, не сочетал так реальное спокойствие простонародных интерьеров Веласкеса, грубую неуклюжесть раннего Курбе, не боявшегося темной повседневности, с внутренним светом, не погасавшим в простых людях. А какая здесь незаметная спектива, обычная ли для интерьера?
Сезанн довольно рано, когда о кубизме никто не думал, размышлял о том, что надо работать в духе "Пуссена и сообразно природе", а путь к этому видел в геометрически криволинейных изображениях "с помощью цилиндров и сфер…"
С этими мыслями Сезанна трудно связать примеры, взятые Б.В. Раушенбахом, чтобы показать, что гора Сент-Виктуар в Провансе просто изображается Сезанном круче, чем было бы (у ученика) в далевой ренессансной перспективе, ибо она изображена в подходящем для дистанции перцептивном видении, будто человек, если он не чертит или не работает с фотоаппаратом с неприспособленным объективом, может ее вообразить или изобразить неперцептивно.
Ведь если гора такая же крутая, как Сент-Виктуар, - например, Сюрю-Кая в Коктебеле, – делается предметом реальной (или воображаемой) картины, то она "вздыбливается" не только у Сезанна, но и у Фалька, у Волошина и у других художников.
Сент-Виктуар и Сюрю-Кая, которых я рассматривал в натуре, "дыбились" и у меня, несмотря на умеренную высоту этих гор.
Если смотришь на Сент-Виктуар, то вспоминаешь не только Сезанна, но и то, что у ее склонов осуществилась сокрушающая победа Гая Мария над тевтонами. Эта битва была важным этапом после непостижимых побед маленьких Афин и их союзников в V в. до Р.Х. над тьмами войск персидских царей в процессе борьбы за Средиземноморскую цивилизацию. Символическая Сент-Виктуар вырастает в глазах мыслящего зрителя в высоту, как страж Афин с Востока – Сунийский мыс, который тоже ниже на фото, чем в восторженной перцепции людей, идущих мимо него на корабле к Афинам.
Вообще изображения гор в качестве объекта, а не второстепенной детали требовали искривления перспективы. Оно наблюдалось даже при изображении условных лещадных горок на иконах. Лещадные горки выполняли на иконах второстепенную роль и плохо совмещались с обратной перспективой, в которой на иконе изображались святые, находившиеся на близких, как бы "наплывающих" на молящихся, планах.
Наверное, для исследований живописи Возрождения не нужно сближать слишком тесно практику ренессансных художников и открытую тогда в теории и очень их обрадовавшую в XV в. ренессансную геометрически наиболее благодарную схему зрительной пирамиды.
Художникам в руки было дано замечательное пособие, но с них никто не брал "подписку о ненарушении". Равнодушное по сравнению с позднейшими тенденциями отношение к дальним горным видам – не вина ренессансной перспективы, а результат сосредоточенности внимания художника на человеке, проявляющемся и в тех искусствах, где о перспективе можно говорить лишь в приблизительном смысле (портрет небольшой группы людей на первом плане и т.п.).
При этом надо помнить ставшую общим местом формулу XIX столетия об открытии в эпоху Возрождения мира и человека. "Открыт" был не только человек, но и окружающий его мир, что воплотилось в ренессансных пейзажах.
Кроме того, среди ренессансных художников были и такие, которые в своей перцептивности восприятия и изображения гор далеко выходили за буквально толкуемую схему зрительной пирамиды и изображали достаточно дальние горы, достигающими верхнего края картины. Прежде всего, среди них надо назвать Андреа Мантенью (1431-1506), который, судя, например, по его гавани и морю на картине "Успение Богородицы" (в Прадо в Мадриде), был великолепным перспективистом, со страстью изображал нагромождения скал и гор (настолько образцово, что Максимилиан Волошин считал несомненным его влияние в фантастически причудливых нагромождениях гор четыреста лет после Мантеньи у Богаевского). Не меньшим мастером и любителем изображения гор, которые как бы выходили за рамки схемы зрительной пирамиды, был фламандец, друг Дюрера, Иоахим Патинир (ок. 1480-1524).
Сам Б.В. Раушенбах математически подсчитал средний процент "ошибок" художников, совершаемых ради передачи наиболее важного для них в картине. Ведь и Сезанн для увеличения обаяния своей любимой горы Сент-Виктуар (1011 м) нередко пренебрегал вразумительным изображением передних планов.
Возвращаясь к условному разделению художников времени перелома от XIX к ХХ в. на "половинки", можно помнить, насколько разнородно выступал сам Сезанн вплоть до последних лет.
Стоит напомнить, с одной стороны, об известной "Хижине Журдана", где главная прелесть достигается дюсспективной цветовой игрой на плоскости. А с другой, – о произведении, над которым Сезанн работал несколько лет, стремясь, чтобы он и его эпоха оставили после себя в искусстве "нечто фундаментальное, достойное музеев". Таким произведением является обширное полотно, названное "Большие купальщицы" (художественный музей в Филадельфии). На полотне жесткая правда в изображении нагих фигур отчужденных от природы женщин уравновешивается некоторой симметричностью их расположения, прозрачной серебристостью, объединяющей и городскую бледность купальщиц, и цвет неба, облаков, образующих некое подобие шатра склоненных друг к другу голых стволов деревьев. Так создается одно целое: подобие широкого, суживающегося кверху сосуда, поблескивающего старинным венецианским стеклом.
Более интенсивный охряный цвет основания картины, вопреки воздушной перспективе, контрастно подхватывается цветом водоема, у которого отдыхают купальщицы, и ярко освещенного солнцем противоположного берега. Это яркое "пятно" имеет аналоги со светлыми далями в грустных пейзажах Бялыницкого-Бируля, тоже по мере сил сохраняющих и сочетающих правду с надеждой, - печально человеческое с проблеском природно освежающего.
В линиях на плоскости полотна – все равно, тела ли это сидящих или лежащих женщин, склоненная ли сень деревьев – сплошь господствует неправильно эллиптическая криволинейность, усугубленная отсутствием какого-либо сглаживания дефектности линий изображаемых тел.
Нагромождение кривизны житейски антиидеального, как это ни странно, находится в контрапункте с нежным освещением и запутанной вязью всей системы разнородных кривых эллипсоида.
Более значимым является вопрос о том, что человек, выпрямившись вертикально, получил, кроме многого другого, возможность созерцать в виде полусферы дневное и загадочное ночное небо, а также при движении головы и глаз – круговую панораму (до горизонта – "отграничителя", "делителя сферы").
Практически, чтобы избежать опасностей и выжить, человеку более необходимо второе, но для развития сознания, духа, видимо, – первое. К тому же, первое не отделено от второго.
Для человека более общим и универсальным явлением становилась не столько "per-spectiva" – зрительное восприятие путем смотрения вперед ("per" – "вперед", "вдаль", "сквозь"), сколько "circum-spectiva" – "смотрение вокруг", "кругозор", "Gesichtskreis" или еще объёмнее – "окоём" – "пространство, которое можно окинуть взглядом" (по определению "Толкового словаря русского языка" Д.Н. Ушакова, т. II, с. 787, М., 1938). Многие языки не располагают таким понятием, как "окоём", с его энергичными коннотациями "обладать", "имать" что-нибудь при помощи зрения (от вопроса об этимологии слова "окоём" мы отвлекаемся), а ограничиваются определениями типа "кругозор" или в обратном этимологии смысле греческим словом "горизонт" (сравнить: "он охватывает широкий горизонт"), либо, как по-французски, переносным значением слов etendue, vue. Кстати, и греческое "оптикэ" (от глагола "оссомай"), употребленное философом Боэцием (романизированным греком конца V - начала VI в.), пожалуй, впервые в смысле "умение художника", "искусство видеть" было передано по-латыни как "перспектива", но передано не совсем полно, сужено. "Оптикэ" в принципе не содержало в себе ограничения именно "смотрения вперед" и, вероятно, должно было с самого начала быть передано как "циркумспектива" – "видение вокруг", "сферическое видение", как нечто противоположное тому, что мы назвали выше "дюсспективой".
Представляется плодотворным для рассмотрения "геометрии картины" у Б.В. Раушенбаха привлечь некоторые условные чертежные аналогии перспективному видению художника. Известное дополнение мог бы в разработке перцептивной системы перспективы вообще и к упомянутым выше чертежам, правильным, но невозможным в живописи из-за утраты общего подобия, составить горький опыт построения картографических проекций на плоскости изображения земного шара, полушарий, обширных территорий. Несмотря на обилие схем проекций, все они, начиная от известной цилиндрической равноугольной проекции фламандца XVI в. Меркатора (1512-1599), включая, может быть, наиболее соответствующую ренессансной перспективе азимутальную равновеликую проекцию, сохраняющую подобие фигур, но не могущую всегда соблюсти их длины, не точны. Стереографическая проекция тоже не годиться для больших площадей, но примечательна тем, что образуется непосредственно путем перспективной проекции части сферы глобуса, поставленной посередине оптической пирамиды на плоскость ее основания: то есть не обходится без сферического подсобного элемента, хотя все равно дает неправильную проекцию.
Картография проекций не могла достигнуть того, что простейшим образом достигается на сфере, на глобусе, сохраняющем геометрическое подобие контуров и соотношение площадей.
Если "экраном" изображения сделать не сложные поликонические построения, а вогнутый "экран" (купол, полусферу апсиды, свод и т.д.), то художник сразу получает облегчение в изображении, схожее с тем, которое у чертежника-картографа возникает на поверхности шара (например, глобуса) и при котором сохраняется (без разрывов "экрана") геометрическое подобие контуров и соотношения размеров предметов изображения. Это еще яснее, когда представишь себе не выпуклый, а "вогнутый", так называемый в астрономии "небесный глобус". Это "шар", рассматриваемый изнутри и изображающий (с соответствующей разметкой) небесную сферу, а в нем – виртуальный глаз + мозг субъекта, находящегося внутри сферы.
Конечно, лучше представить себе не просто небесный глобус, но условно вывернутый наизнанку земной глобус, то есть шар, вогнутый и рассматриваемый изнутри; почти все преимущества глобуса перед картографическими проекциями останутся в силе.
Перспектива ("впередвидение") становится частью сферической перспективы – "циркумспективы" ("вокругвидения"). Итальянская или Дюрерова перспективная сетка, сделанная чуть-чуть вогнутой по отношению к глазам (и соответствующей вогнутости поверхности свода), в теории облегчит задачу художника и (с поправками перцептивной перспективы) "сама" разместит изображаемое ближе или дальше, в зависимости от его кажущегося места в сферической перспективной сетке.
В "циркумспективе" исчезнет опасность, появляющаяся в какой-то части картины и искажающая ее, как карту при равноугольной проекции Меркатора, или на фотографиях, сделанных со стороны вытянутой к объективу ноги или руки. Парадоксальная диспропорция между ортодромией и локсодромией (т.е. системой линий, пересекающей все близкие поперечные линии под углом, приближающимся к прямому), когда вторая (кривая), вопреки действительности, кажется прямой и кратчайшей.
Этому недоумению соответствует и разное значение вогнутых (внутренних) поверхностей в архитектуре и поверхностей внешних, более или менее цилиндрических. Вторые, внешние, (хотя они иногда тоже расписываются, например, в церквях Молдавии) не имеют столь принципиального значения в купольных зданиях – в Пантеоне в Риме, в Сан-Витале в Равенне, даже у Браманте в Санта Мариа делле Грацие в Милане (что рядом с трапезной, со знаменитой "Тайной Вечерей" Леонардо). Храмовые сооружения, снаружи цилиндрические или многогранные, не позволяют догадаться о вертикальной перспективе и высоте внутреннего купола. Только начиная с Брунеллески, позднего Браманте, рисунков Леонардо, купола Микельанджело, русских позолоченных луковичных куполов на высоком барабане, приспособленных к тому, чтобы собирать слабый рассеянный свет и блеск снега, архитектурная выразительность купола снаружи едва ли не перевешивает живописные возможности купола внутри.
Сейчас уже можно представить себе, что в 2033 г. захотят к 2000-летию Тайной Вечери показать целому континенту, например, Европе, фреску Леонардо да Винчи на виртуальном или реальном, достаточно высоко поднятом и обширном экране ночного неба. Я не могу этого описать в математических формулах, но хотел бы спросить: не развернулась бы фреска из плоскости с великолепно представленной художником перспективой к еще более близкому к трехмерности изображению, как бы "наклеенному" изнутри на астрономический глобус? На сфере она будет правильно видна от Гибралтара до Уральских гор так же, как где-нибудь посередине, с какого-либо Маттергорна. Заложенный в ней эффект "панорамы" увеличился: глухие боковые окна "раскрыты", обращены в прорези, три стены разомкнуты, углы разомкнуты, потолок снят, пространство расширилось. Экранные возможности великой фрески подтвердились. Эксперимент можно сделать проще, в давно доступных масштабах, проецируя картины на правильно подобранную ленту сферы в просторном современном здании. При этом выиграют не только изображения ренессансной перспективы, но окажутся более живыми помпеянские фрески, построенные по симметричному принципу так называемой "рыбьей кости" со сходом лучей не в точке, а в центральной вертикали. Такой же опыт – применить к иконе, духовному произведению с преобладающим высшим светом, может быть, не на вогнутой поверхности, а с "наплывом", на выпуклой.
Некоторым идеалом сферического видения (глаз + мозг) могло бы стать положение космонавта ("пространствоплаватели") III тысячелетия, которого не будет ограничивать ни горизонт, ни иллюминатор корабля, ни близость темных, а тем более светящихся крупных небесных тел. Он своим по-настоящему "окоёмным" зрением сможет "обладать, имать космос", наблюдая по всей сфере то, чего Лермонтов провидчески коснулся в слышащихся Тамаре словах Демона: "На воздушном океане // Без руля и без ветрил // Тихо плавают в тумане // Хоры стройные светил…".
У пространствоплавателя будущего были много тысячелетий назад далекие предки в смысле общей тяги к сферичности "поверхности" проекции видения. Уже художник каменного века нередко предпочитал изогнутые поверхности свода пещеры вертикальной стенке да еще иногда как "антицилиндрист" изгибал вверх ряд фигурок посередине. Затем сакральное зодчество даже у мусульман, которым не полагалось изображать живое, стремилось к богато украшенной орнаментальной росписи (часто с кораническими строками) как раз на внутренних сводах и в куполах мечетей или мавзолеев, например, в Самарканде.
Мозаичные изображения христианских храмов на внутренней стороне апсид, сводов, подкупольных парусов, самих куполов, распалубок придавали блистательное правдоподобие центральному положению молящегося перед Богом. Воздействие апсидальной внутренней сферической мозаики было таково, что в древних прямоугольных базиликах Рима и Равенны происходило перцептивно-перспективное преображение параллелепипедной формы здания в воспринимаемую почти как бочкообразную. За колоннами и над их рядом, впереди самих внутренних стен и потолка эта перцептивная бочкообразность позволяла присутствовавшим в храме оказаться в положении человека, непосредственно беседующего с Богом.
После смерти Микельанджело (1564 г.), главного строителя собора Св. Петра, контрреформационные папы от конца XVI - начала XVII вв., в. т.ч. Григорий XIV (злополучный усовершенствователь юлианского календаря, усугубивший разделение Европы), то есть те папы, при которых разгорелись войны за завоевание православной Московии, стали уродовать как со светской, так и с духовной стороны храм Св. Петра. Именно они заставили архитекторов из тщеславия и для расширения вместимости (15600 кв. м) храма непомерно (до 186,36 м) удлинять его базилику; ее "превосходство" в этом плане даже отмечено надписями на полу. После этого базилика отдалила присутствующих от центра купола и закрыла для них купол храма со стороны главного фасада! Те понтифики с чиновничьим отсутствием воображения (особенно Павел V) не задумывались над тем, что они уродуют храм не только снаружи, но и лишают его большей части внутреннего величия и обаяния. Они задвинули на второй план вместе с храмовыми замыслами Брунеллески, Росселино, Браманте, Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микельанджело, саму духовную атмосферу храма, возможность совмещения ренессансно-прекрасного с философской беседой с Всевышним – sacra conversazione – приглушили эту возможность "святого собеседования".
Все гении из числа строителей храма Св. Петра или вдохновителей строителей стремились к плану в виде греческого креста, обстроенного со всех сторон апсидиально циркулярными нишами так, что казалось: их издали вдохновляли идеи сферичности Константинопольской Св. Софии. И только Павел V сломал волю Джованни Фонтаны и Джакомо делла Порта в 1605-1621 гг. и вынудил самовольно-утилитарным удлинением на три четверти погубить концентрированную мощь идеи Браманте-Микельанджело. Теперь, чтобы не лить слезы, приходится любоваться могучим куполом храма сбоку или сзади, с алтарной стороны.
Наружный вид храма Св. Петра несколько подправил своим талантом Джанлоренцо Бернини, который будто во искупление греха молодости, когда согласился возвести вычурную бронзовую громаду часовни-балдахина (кивория) в подкупольном пространстве, создал во второй половине жизни, с конца 1650-х г.г., гигантскую вогнутую по отношению к входящему четырехрядную колоннаду (284 колонны!), в плане напоминающую два серпа с "обратно перспективно" раздвигающимися к храму ручками, "приглашавшую" верующих взглянуть хоть издали на величие купола Браманте – Микельанджело и затем войти в объятия Римской церкви. Этот мотив позже своеобразно в эстетически-инженерном смысле повторил Воронихин в вогнутой колоннаде Казанского собора на Невском проспекте во имя того, чтобы хоть не выделять отчуждающую непараллельность оси ориентированного по странам света собора и оси Невского, церкви и государства, а, может быть, казенного учреждения – тогдашней церкви – и искусства.
Тему необходимости сферических купольных, апсидиальных или закругленных в плане, "панорамных" сооружений можно продолжить под влиянием инициативы, содержащейся в книгах Б.В. Раушенбаха. Закругления, на поверхности которых помещались разные изображения – барельефы, мозаики, роспись – встречаются уже в эллинских театрах, в "боковых" римских форумах с их нишами (от форума Августа и особенно Траяна), в колоссальных арочных сооружениях базилики Максенция и римских бань.
Иное можно сказать о помещенных в прямоугольные или крестообразные здания центрально-купольные системы, организованные вокруг купольного круга с его сферообразующими возможностями в баптистериях Рима, Пизы, Флоренции, Пармы, тысячах и тысячах позднейших купольных церквей, мечетей, гробниц, вплоть до знаменитых военных панорам XIX-XX вв., или до циркулярного и сферического выбора оформления пространства вокруг гробницы Наполеона после перенесения его праха в Париж.
Мы возьмем в качестве наиболее ясных только три примера храмовой архитектуры, либо основанной на сферической, в том числе, на вертикальной циркумспективе, или строения, незаметно, но последовательно сочетающиеся с ней, даже будучи основанными на преимущественно параллелепипедных контурах и пропорциях.
Сначала рассмотрим римский Пантеон, вернее, его главную преобладающую круглую часть. В плане она восходит к существовавшим еще в Древней Греции (частично сохранившимся, например, в Дельфах) толосам. Толос – это строго круглый храм, в котором круглый в плане наос (он мог служить для помещения статуи божества, быть дарохранительницей и т.д.) обнесен круглой колоннадой. Толосы сохранились в разных местах Римской империи и в самом Риме.
Громада Пантеона (I-II вв. до Р.Х.) не соизмерима с ними по размеру, а отчасти, и по форме. Это тоже круглый храм, но из сплошной массивной круговой стены; колоннада у него не изогнута. Она служит атриумом, перпендикулярна входу, несет портик и придает всему торжественность. Но главное в Пантеоне – колоссальный купол с 28-ю изнутри изогнутыми и сходящимися кверху радиусами. Каждый радиус включает пять рядов ("этажей") лакунарных кессонов (глубоких потолочных врезок) в виде вертикально изогнутых трапеций, более углубленных и более широких внизу, чем наверху. Благодаря этому купол в сферической вертикальной циркумспективе представляется несравненно круче, "углубленней ввысь", выше, чем снаружи, и чем он есть на самом деле.
Пантеон взят для рассмотрения не случайно. По-видимому, в соответствии со своим наименованием ("храм всех богов") его надо понимать как храм неба, храм семи богов, семи движущихся светил. Отсюда его вертикальность, и поэтому он разделен на 28 (четырежды семь) наклонно-вертикальных кессонов, то есть устремлен к семи богам: Солнцу-Аполлону (будущее воскресенье), Луне-Диане (понедельник), и так далее – Марсу, Меркурию, Юпитеру, Венере, Сатурну, давшим названия дней недели, которые сохранились в календарях большинства европейских языков.
Таким образом, вертикальная удлиненность суживающихся кверху кессонов, устремляющихся к единственному круглому окну (горизонтальному срезу – прорези вверх, в небо), достаточному для освещения, символизировала у язычников устремленность в горние сферы, к семи воплощенным в светила богам.
Мало того, освещающее весь храм единственное окно – круг, перерезающий верхнюю часть купола, непосредственно демонстрирует днем и ночью сферическую циркумспективу небесной сферы, заданную идеей храма: "Смотри на небо, ищи небесных богов не здесь, на плоскости, но на самой небесной сфере".
Подобная схема изображения (с изменением лишь в том, что христиане обращались к единому Богу и его окружению) по мере возможности повторялась во многих храмах – византийских, затем романских на Западе и в стиле храмов домонгольского и дотурецкого зодчества у православных. Особенно это заметно после создания четырехстолпной конструкции в изображениях на парусах при подпоре купола, в стремлении к выраженной сферичности мозаик в куполе на сводах и в апсидах, ставших не плоскими, а вогнутыми основаниями для изображений.
В Италии, не считая баптистериев, сохранились циркулярные постройки пограничного язычески-христианского времени, например, в Риме закругленный храм-мавзолей дочери императора Константина св. Констанции (конец IV в.). В храме в малом масштабе использован опыт Пантеона. Атриум также расположен по касательной круга храма. Сход и кессонный купол храма, стоящий на сдвоенных колоннах. Зазоры между их антаблементами суживаются во внутрь к центру. Они образуют, если смотреть изнутри, редкую в архитектуре своеобразную обратную циркумспективу (хотя зодчий наверняка мыслил ее снаружи как прямую).
В общем неплохо сохранился замысел римского храма Сан Стефано: колонны храма образуют двойной круг (V в. до Р.Х.).
Круговые церковные интерьеры с преобладанием в них простого арочного и кругового декора возродил на новой ренессансной основе спустя тысячу лет во Флоренции периода Кватроченто Филиппо Брунеллески. Мы не говорим о гениальном куполе Санта Мариа дель Фьоре, открывшем новую эпоху в европейском искусстве, а о вещи более скромной – роли закруглений и кругов в интерьерах старой ризницы Сан Лоренцо и капеллы Пацци во Флоренции (1420-1440), в которых был достигнут идеал гармонии эпохи Возрождения. Нечто подобное в идеале гармонии экстерьера явил в 1503 г. Браманте в круглом "храмике" Сан Пьетро ин Монторио в Риме.
Начиная с XVIII в. в Италии появились прямые подражания основным формам Пантеона. У Филиппо Увары (1676-1736) в храме ди Суперга на холме в Турине подражание кажется вольным, потому что Увара был искусным манерно-барочным декоратором и смягчил суровость здания.
Во времена же итальянского неоклассицизма конца XVIII – начала XIX веков архитектор Фердинандо Бонсиньоре (1760-1843) постарался едва ли не скопировать Пантеон в массивной туринской церкви делла Гран Мадре ди Дио (1818-1831).
Особое место в мировой архитектуре в духе систем сферической циркумспективы занимает константинопольский храм Св. Софии-Премудрости. Начатый при Юстиниане и построенный в 537 г. Антемием (Анфимием) и Исидором, он был вначале декорирован внутри в духе иконоборчества только гигантским надалтарным крестом и мозаиками с растительным орнаментом. В ближайшие последующие века храм Св. Софии неоднократно достраивался для того, чтобы конструкция легче выдерживала вес необычайно широкого в диаметре центрального купола и менее заметных снаружи соприкасающихся с ним переднего и заднего "прикуполов". Снаружи, особенно при неярком свете, собор выглядит горообразно, и значение купола скрадывается. Но внутри порождает необычное впечатление, так как пространство (троичное в длину храма) является единой крытой площадью. Основные четыре столпа (два столпа при входе и два перед алтарем) кажутся поставленными чуть вогнутой стороной внутрь храма так, что они создают ничем не заполненный – его трудно охватить взглядом – единый овал под всеми тремя долями купола от атриума и нартекса до алтаря. Это самая большая "площадь" под твердым перекрытием за историю архитектуры (до появления железобетонных и стальных конструкций). Своего рода восторженное головокружение создается тем, что горизонтальному овалу соответствует почти полная полусферичность вертикального сечения (в разрезе), воспринимаемая из-за дальности расстояния и редкого эффекта воздушной перспективы внутри здания действительно как полная полусфера. К этому надо добавить, что отделение боковых кораблей (нефов) от главного корабля храма кажется "прозрачным", так как в ширину оно делится основными столпами по вертикали пространства на два главных этажа. Между столпами достаточно широко расставлен ряд высоких колонн зеленого мрамора (сохраненных при пожаре храма Артемиды Эфесской в 356 г. до Р.Х.). Колонны кажутся еще стройней потому, что они увенчаны светлыми резными капителями, на большой высоте поддерживающими не непосредственно горизонтальный архитрав, а просторные, взмывающие вверх арки. Все это и другие продуманные художественные приемы (в том числе боковое освещение) делают продольную перегородку между нефами изящной и "кружевной". Она не столько разделяет, сколько объединяет три параллельных корабля храма также и по ширине, что усиливает эффект единства неоглядной "площади" здания. Снизу доверху вся конструкция облегчена, украшена и освещается минимум семью "вспомогательными" рядами многочисленных окон, число которых едва ли без большой затраты сил сумеешь вычислить, находясь в храме. Количество их проще вычитать в архитектурно-инженерных описаниях с поясняющими чертежами.
Из перелива бесчисленных источников света, бросающих отблеск на множество созданных в IX – XII столетиях мозаик по темам Св. Писания, духовной культуры Восточной церкви и придворной жизни, возникает, может быть, наиболее гипнотизирующая модель соответствующей тогдашним богословско-физическим представлениям о том, что будет названо Владимиром Вернадским ноосферой, и о ее, ноосферы, небесном сиянии. В Св. Софии в куполах, на парусах, в апсидиальных нишах, на сводах, которые заменили горизонтальную связь между колоннами и столпами, сама вогнутая сферичность порождает тягу к циркумспективе. Это малоизученное явление расширения нормального угла зрения и придания глазам ускоренной подвижности по горизонтали и вертикали находится в связи с тем, что мозаики выделялись, привлекали дух созерцающего человека своим сиянием и эффектом зеркальности от золотистого и других чистых ярких тонов. Все это доходило до такой степени одухотворенности и веры, что мозаики (в том числе и плоские) вели, особенно в апсидах, к вере, ассоциируясь с небесностью своей апсидиальной циркумспективной вогнутостью.
Чувства, охватывающие посетителя Св. Софии, показывают тягу человека к передаче "сферичности" вселенной в искусстве. Более экзальтирующего духовность человека доказательства, может быть, и нет. Недаром ведь храм Св. Софии выдержал и иконоборческую безобразную стадию, когда его выразительность сохранялась только гениальным могуществом вселенского купольного замысла в полутысячелетний период османского владычества. При турках, с 1453 г. по 1930-1931 гг., когда Ататюрк превратил храм-мечеть в музей, Св. София была изнутри недоступна христианам. Чудеса мозаик, в которых лики Богоматери и святых, бывшие составной частью (значащей) циркумспективы, оказались закрытыми или замазанными надписями из Корана, правда, часто вписанными в круги. Но сила сферически-перспективной системы и выразительности сосредоточилась снаружи сверх купола, оставалась такой, что в послехристианском храме внутри истово молились Аллаху мусульмане, а снаружи, таясь, на храм крестились оставшиеся в Константинополе-Стамбуле христиане, и дивились все те, кто проплывал по Босфору. Ибо храм своей округло-титанической массой представлялся духовно более потрясающим, даже чем пирамиды вблизи, и если не достигал в архитектуре чего-либо, то разве гармонии афинского Акрополя с венчающим его Парфеноном.
В пропорциях Парфенона, с виду сплошь прямолинейного сооружения, важную эстетическую антропоморфную выразительную роль играет и легкая бочкообразность колонн его периптера и поражающая, хотя и не сразу заметная посетителю овальность всего Акрополя в плане, и нисходящие полукружия обступающих его театров.
Человек, не уверовавший и не занимающийся проблемой живописного сферического эффекта, все равно запомнит самую знаменитую мозаику монастыря XI в. Оссиос Лукас Тириот в Беотии, расположенного высоко в горах, близ дороги из Дельф в Афины.
Этот монастырь назван не в честь Св. Луки Евангелиста, а в честь местного беотийского отшельника Св. Луки, основателя обители.
Мозаика XI в., о которой идет речь, помещена в полукружии. На ней на золотом (небесном) фоне изображен Господь Вседержитель (Пантократор) в необыкновенно активном действии. По своем Воскресении Он в развевающемся одеянии, опираясь на символический крест в правой руке и на отставленную назад правую ногу, выводит, в данном случае, извлекает из бездны, где томились до Воскресения праотцы, пророки, праведники, почтенного старца. Выводимый из преисподней коленопреклоненный праведник, судя по седине старца, - Адам (возможно, символизирующий Луку до канонизации). Иисус Христос не только поднимает праведника, но и ведет его налево к себе и с собой. Это усилие показано весьма реально, и левая нога Вседержителя, попирающая черную бездну ада, выдвинута налево и далеко вперед, навстречу взглядам молящихся. При этом замечателен линейно перспективный опыт: левая ступня дана в ракурсе и почти правильно в ренессансной перспективе в большем масштабе, чем отставленная назад правая. Это не античное гармоническое распределение тяжести по диагонали, а предваряющее Ренессанс и впоследствии особенно характерное для Микельанджело сосредоточение опоры на одной стороне тела.
Ренессансная перспектива условно возникает и потому, что стоящие за Иисусом Христом, для зрителя помещенные на мозаике слева святые – император IV в. Константин и его мать Елена (обретшая чудотворный крест Распятия) – не только изображены в меньшем масштабе, но и в три четверти фигуры, так что их высота имитирует правильную перспективу.
Если самая правая (для зрителя), находящаяся за Адамом женская фигура – Ева, то ее относительно высокий (после Христа) рост при уменьшенном масштабе изображения объясняется тем, что она стоит вплотную за коленопреклоненным Адамом и, естественно, кажется выше его. В мозаике намечена и воздушная (световая) перспектива: все фигуры второго зрительного плана темнее Иисуса Христа и Адама. Вдобавок ко всему этому мозаичист сознательно сделал золотой фон светлым посередине и более темным на всей периферии полукружия. Это нельзя объяснить светоносностью Вседержителя, потому что верх символического посоха-креста тоже уходит в более темную зону.
В общем, согласно обеим перспективам, линейной и воздушной, Иисус Христос снисходит к молящимся из небесных сфер в храм, а тот, кто не стоит перед мозаикой, не может решить, помогла ли такому эффекту сферичность полукружия, или великий мозаичист так высоко оценил значение сферичности, что имитировал его на углубленной в нишу плоскостной мозаике – пусть созерцатель решит этот вопрос…
Средствами несферической "спективы" или аксонометрического макета можно изучать все это, но художественно воспроизвести нельзя, так как в некотором смысле ни аксонометрия, ни линейная перспектива не может воспроизвести сферической художественной картины ночного неба и должна прибегнуть на уровне чертежа к услугам модели в сферическом планетарии.
Одним из неожиданных подтверждений не только теоретической потребности будущего "пространствоплавателя" в циркумспективе и в сферичности является скромное восприятие обыкновенным человеком перспективной тенденции прямых углов (особенно верхних) в прямоугольном, по идее, помещении к перцептивно закругленному, а не строго четкому представлению, хотя бы легкому ощущению изгибания внутрь боковых и верхних плоскостей комнаты, залы. Интересной кажется сопоставимость таких ошибок с теми, которые были предусмотрены строителями дорических храмов.
Время вернуться к казусу с Парфеноном и с одним из лучше всего сохранившихся древних храмов Афин, несколько более раннего времени, чем Парфенон. К Тесейону (по-новогречески – Сисиону), но исторически – Гефестиону (то есть храму, посвященному Гефесту).
Первый раз я был в Акрополе тогда, когда еще пускали внутрь периптера колоннады Парфенона. Здесь можно было многому поразиться. Я знал, конечно, что дорические колонны "человекообразны": расширяются к середине и суживаются близ капителей, но не знал, что эти колонны чуть наклонены внутрь, и принял это ощущение за оптический обман, вызванный высотой колонн; но в душе сохранилось какое-то сомнение: было необъяснимо, почему сближение верха колонн казалось столь очевидным. Когда я второй раз попал в Афины, то бросился проверять этот эффект непосредственно, не обращаясь ни к каким источникам. Но, увы (или к счастью) для сохранности величайшего архитектурного чуда подъем по ступенькам внутрь Парфенона запретили.
Однако, времени было больше, и можно было съездить туда, где находились сады Академа и преподавал Платон, походить по Агора, представить себе места, где Аристотель, прогуливаясь, беседовал со своими учениками и, наконец, было время посетить Гефестион. Тут совершилось невероятное. Храм был скромнее (не мраморный), меньше и легче обозрим под разными углами изнутри. И что же? Там, откуда брала начало рациональнейшая традиция, где все было продумано и проверено строителями до миллиметров, я вновь встретился с теми же особенностями колонн и с их очевидной сознательной легкой вогнутостью внутрь. Прочитанное позже подтвердило, что здесь, в твердынях линейной перспективы царила изящная и реальная уступка циркумспективе, царил окоём, кругозор, тот элемент сферичности, который, как мы говорили выше, заключен в словах "die Gesichtskreis", "l′étendue", "la vue", в переносных смыслах английского слова, которое легче написать условно по-русски, чтобы его правильнее произносили, - "пэрспективъ", и в его синонимах ("vista", "mental view" etc). Да и фактор наличия у меня времени помог системе "глаз + мозг" сосредоточить внимание на том, что потом подтвердилось в научной литературе.
Великие дорические храмы и сам Парфенон не вписываются полностью ни снаружи, ни внутри колоннадного периптера (отвлекаясь от архитрава и других сооружений над колоннами) в правильный параллелепипед не только потому, что колонны толще внизу, чем наверху, и слегка бочкообразны, но и потому, что угловые колонны дорического храма (почти на половину нижнего радиуса колонны) отклоняются от вертикали внутрь храма по его диагонали. Это имеет значение, как на колонны ни смотреть: спереди ли, сбоку ли. Это отклонение уменьшается во вторых от углов храма колоннах и исчезает в средних колоннах (по торцу Парфенона) с третьей по шестую.
Распространенные модели линейной перспективы дорических храмов и их подлинно жизнеспособные изображения в живописи сходят на нет.
После изложенного кажется возможным не только повторить, но и перефразировать слова Б.В. Раушенбаха, сказанные им в книге "Геометрия картины и зрительное восприятие" о перспективе: "Перед художником всегда стояла очень трудная задача – изобразить на двухмерной плоскости рисунка или картины трехмерное пространство". Может быть, это общепринятое и, в целом, бесспорное положение надо было бы после тире выразить следующим образом (во всяком случае, для живописи от рубежа Треченто до Манэ): "…соблюдая пособие, избегать (в частности, за счет циркумспективы) возможной неудачи и противоречий, возникающих при попытках точно перспективно изобразить трехмерное (сферическое) пространство на двухмерной плоскости строго ортогональными средствами".
При таком дополнении возможно было бы избежать и слишком высокой оценки "Золушки" перспективных методов" аксонометрии, то есть параллельной перспективы. Б.В. Раушенбах даже как-то именует ее "королевой перспективных систем". Аксонометрия весьма пригодна во многих случаях: для создания архитектурных макетов и чертежей (например, зданий) в различных угловых проекциях, а в благоприятных случаях – при передаче в разных перспективных системах для воспроизведения единичных предметов самих по себе и на достаточном удалении. Но аксонометрия не приложима к изображению ряда предметов: например, интерьеров, нескольких зданий, уходящей в глубину улицы, уходящей дороги или аллеи с деревьями, рельсов – и если не учитываются границы целесообразного ее применения, границы приемлемой для нее близости или удаления фигур. При очень близком расстоянии, как на иконах, она не может спорить с обратной перспективой. Она не годиться (если ее не свести к механизму копирования статуй) для изображения людей, животных, всего закругленного, если это не простейшие фигуры – цилиндр, конус и т.д. Кроме того, аксонометрия вводит в заблуждение и при значительной удаленности предметов, когда значение параллельности или непараллельности линий растворяется в объеме окружающего пейзажа.
Аксонометрия не дает простора для соединения предметов и лиц: как аксонометрически представить (не в макете, а на плоскости) взгляд на Невский в сторону Адмиралтейства с середины проспекта? От аксонометрии "рассыпятся" не только картины Делакруа, но и "Запорожцы" Репина; она мгновенно "окаменит" все, что написал Боттичелли.
С королевской миссией аксонометрии можно согласиться при обучении архитектуре, можно согласиться как со средством проверки правильности рисунка. Например, она помогла обнаружить пробелы в числе и месте ног персонажей в картине Репина "Иван Грозный убивает своего сына".
Но создать художественное динамическое авторское произведение в параллельной перспективе, видимо, нельзя именно потому, что она ведет к гашению результатов той перцептивности, которую с таким блеском объяснил Б.В. Раушенбах, принципиально оживив важность и неистощимость научного изучения дюс-, пер-, циркум- спектив.
В заключение нужно подчеркнуть важность того, что пишет академик Б.В. Раушенбах об устойчивости суммы ошибок при передаче трехмерности на плоскости (то есть, не принимая во внимание произвольность "дюсспективы" при отказе от задачи воспроизведения подобия трехмерного пространства) в зависимости от внутренней или относительно внешней задачи художника: с какой дистанции художник собирается сосредоточиться на изображении фигур (нижней, левой или правой вертикальной стороны, либо верхней плоскости и т.д.). Очень важно, что в анализе основных систем перспективы сосредоточивается внимание на том, что сумма ошибок художника при благоприятных условиях применения той или иной изобразительной системы перспективы примерно одинакова, хотя распределяется по-разному.
Очень хотелось, чтобы были дополнительно рассмотрены математически вопросы перцептивной перспективы в одном простом и в одном сложном случаях. Когда говорится о помещающемся между фотографическим и сезанновским (вообще свойственным тем или иным художникам) контуром горы (допустим, Сент-Виктуар) предполагаемый перцептивный контур, не следует ли изображать не в виде одной (возможной) линии, но в виде широкой полосы возможных линий, даже не ограничивая их сезанновской, потому что, скажем, линия Мантеньи, Константина Богаевского, Сарьяна может оказаться еще круче.
Второе пожелание – рассмотрение причин выразительности сложноперспективных сферических построений вроде сезанновского в "Больших купальщицах" или еще лучше – классика бесконечно усложненных экстерьерных интерьерно-гигантских гравюр и офортов Пиранези (1720-1778). Серии его архитектурных гравюр безмерно расширяли перцептивное воздействие воображаемого или изображаемого – будь то римские сооружения, будь то изобличения извращенной страсти к строительству тюрем. Такие гравюры вдохновили Стендаля на гневное описание заключения Фабрицио в романе "Пармская обитель".
То, что обсуждалось выше в этой статье, связано и с вопросом о несоответствии в реальных земных условиях низа и верха. Верх в условиях человеческого окоёма больше связан с проблемой сферичности, и вопросы циркумспективы в принципе могут пробуждать стремление специально математически выверить систему перцептивной перспективы, когда она приобретает характер изучения изображения сфер и на сфере. К этому, как это видно из сопоставления книг 1986 и 1994 гг., академик Б.В. Раушенбах чаще приближается в собственно математической части книги "Системы перспективы в изобразительном искусстве: общие теории перспективы" [М., 1986], чем в систематизированной, но рассчитанной на большую доступность книге "Геометрия картины и зрительное восприятие" [М., 1994].
Литература
1. Балашов Н.И. – Соотношение идеального и жизненно-реального в художественных системах Ренессанса и XVII столетия как критерий разграничения этих систем. [Изв. РАН. Серия литературы и языка. т. 52, № 1, 1993] .
2. Балашов Н.И. – От Оригена к Достоевскому (надежда на возможность конечного спасения и её проявление в литературе и живописи). [Русское подвижничество. М., 1996].
3. Раушенбах Б.В. – Системы перспективы в изобразительном искусстве: общие теории перспективы. [М., Наука. 1986].
4. Раушенбах Б.В. – Геометрия картины и зрительное восприятие. [М., Наука. 1994].
5. Раушенбах Б.В. – Пристрастие. [М., Наука. 1997].
6. Раушенбах Б.В. – Пространственные построения в древнерусской живописи. [М., Наука. 1975, 1985].
7. Матье М.Э. – Роль личности художника в искусстве Древнего Египта [М., 1947].
8. Матье М.Э. - История искусства Древнего Египта [М., 1958].
Аксонометрия – (от греч. axon – ось и metreo – измеряю) один из видов перспективы, основанный на методе проецирования (получения проекции предмета на плоскости), с помощью которого наглядно изображают пространственные тела на плоскости бумаги. Аксонометрию иначе называют параллельной перспективой. Как и обратная перспектива, она долгое время считалась несовершенной и, следовательно, аксонометрические изображения воспринимались как ремесленный, простительный в далекие эпохи способ изображения, не имеющий серьёзного научного обоснования. Однако при передаче видимого облика близких и небольших предметов наиболее естественное изображение получается именно при обращении к аксонометрии.
Аксонометрия делится на три вида:
1. Изометрия (измерение по всем трем координатным осям одинаковое).
2. Диметрия (измерение по двум координатным осям одинаковое, а по третьей – другое).
3. Триметрия (измерение по всем трем осям различное).
В каждом из этих видов проецирование может быть прямоугольным и косоугольным. Аксонометрия широко применяется в изданиях технической литературы и в научно-популярных книгах благодаря своей наглядности.
Антаблеме́нт (фр. entablement от table – стол, доска) – балочное перекрытие пролёта или завершение стены, состоящее из архитрава, фриза и карниза.
Антаблемент – верхняя, несомая часть архитектурного ордера.
Структура антаблемента различна в трёх архитектурных ордерах: дорическом, ионическом и коринфском. В каждом из них пропорции компонентов (архитрава, фриза, карниза) определяются пропорциями колонны ордера. В древнеримской и ренессансной архитектуре он обычно составляет примерно одну четвертую часть высоты колонны. Варианты антаблемента, отклоняющиеся от этих моделей, обычно производны от них. Стоит заметить, что отношение антаблемента к высоте колонны зависит прежде всего от масштаба сооружения: так, при высоте колонны в 12-15 футов антаблемент составляет 0.19h, 15-20 футов – 0.26h, 20-25 футов – 0.27h, 25-30 футов – почти 0.28h. Данные соотношения зафиксированы в каноне Витрувия.
Антаблемент вместе с системой классических колонн редко встречается за пределами классической архитектуры. Он часто применяется для завершения верхней части стены при отсутствии колонн, а в случае пилястров (плоских или выступающих из стены колонн) или полуколонн он иногда выписывается вокруг них. Применение антаблемента без колонн сложилось после эпохи Ренессанса.
Встречается антаблемент без отдельных его частей. Так, антаблемент без фриза называют неполным, а без архитрава - облегченным.
Антропоморфизм (греч. ανθρωπος человек, μορφή вид) – наделение человеческими качествами животных, предметов, явлений, мифологических созданий.
Апори́я (греч. ἀπορία, «безысходность, безвыходное положение») – это вымышленная, логически верная, ситуация (высказывание, утверждение, суждение или вывод), которая не может существовать в реальности. Следует различать апорию и парадокс. Парадокс, в отличие от апории, является ситуацией (высказыванием, утверждением, суждением или выводом), которая может существовать в реальности, но не имеет логического объяснения. Апории известны со времён Сократа. Наибольшую известность получили апории Зенона из Элеи.
Апси́да (от греч. hapsis, род. падеж hapsidos – свод), абси́да (лат. absis) – выступ здания, полукруглый, гранёный или прямоугольный в плане, перекрытый полукуполом или сомкнутым полусводом (конхой).
Впервые апсиды появились в древнеримских базиликах. В христианских храмах апсида – алтарный выступ, ориентированный обычно на восток.
Баптистерий (лат. baptisterium, от др.-греч. βαπτίζω «крестить», крестильня, крещальня) – пристройка к церкви или отдельное здание, предназначенное для совершения крещения. Внутри баптистерия располагается крестильная купель, как правило, достаточно большого размера, чтобы в неё мог погрузиться взрослый человек, либо даже несколько людей. Баптистерии известны не ранее IV в. и первоначально были довольно больших размеров. Часто они служили для подготовки готовившихся принять крещение, а иногда и для собрания христианской общины.
Приблизительно с начала IX в. баптистерии встречаются значительно реже, по причине христианизации основной массы населения, приведшей к тому, что большинство людей принимали крещение ещё в младенческом возрасте. Размеры купели уменьшились – вместо бассейна она приобрела вид большой чаши, которая могла быть как переносной (как правило, в этом случае она изготавливалась из металла), так и непереносной. Во втором случае она устанавливалась в часовне или в храма – у западной стены, ближе к входу (так было принято на Западе) или в особом притворе (более распространено на Востоке). В XX в. по причине роста числа взрослых людей, желающих принять крещение, баптистерии и крестильные храмы вновь стали приобретать значение.
Киворий – (греч.) – сень над престолом, поддерживаемая колоннами; к киворию крепились завесы, закрывавшие престол в промежутках между службами. Появляется в IV-VI вв. В иконописи изображение кивория символизирует алтарь.
Лещадные горки – символ природы, их функция в миниатюре не изображать, а исключительно «обозначать», что действие происходит вне города, «на природе». Если в тексте летописи говорится, что событие произошло в поле (на Куликовом поле или на Кучковом поле), то лещадные горки объединяются сверху одной плавной линией. В остальных же случаях лещадные горки служат кулисами, из-за которых выступают группы людей или отдельные люди, с помощью которых лаконично изображены те или иные события. Лещадные горки позволяют сократить число фигур, служат своего рода «многоточием», чтобы оставить только часть группы или даже часть фигуры, иногда даже одни головы. Они – средство разделения миниатюры на отдельные изображения и средство сокращения многолюдных сцен или отдельных человеческих фигур. С помощью лещадных горок можно изобразить только «знак» события, спрятав за них то, что показалось миниатюристу лишним!
Михра́б (مِحْراب) – ниша в стене мечети, часто украшенная двумя колонами и аркой, указывающая киблу, то есть направление, где находится Кааба в Мекке. К нему обращаются лицом мусульмане во время молитвы. Он часто расположен в середине стены.
В истории исламского богослужения михраб является инновацией начала VIII века (конец первого века Хиджры). Хотя михраб никогда не упоминается пророком Магометом, однако, исламские теологи единодушно признали его хорошей религиозной инновацией. Согласно одной из этимологий, это слово не исконно арабское, а персидское и означает первоначально нишу в храме митраистических божеств.
Наос (греч. ναος – храм, святилище) – центральная часть христианского храма, где во время богослужения находятся пришедшие в храм молящиеся. С востока к наосу примыкает алтарь - важнейшее помещение храма, где располагается престол и совершается литургия. Алтарь в православных храмах отделён от наоса завесой и иконостасом.
С запада к наосу присоединяется притвор или по гречески нартекс. В некоторых русских храмах притвор отсутствует и входная дверь храма ведёт прямо в наос.
На́ртекс, притвор (позднегреч., от греч. νάρθηξ – ларчик, шкатулка) – составляет самую западную часть храма и обыкновенно отделяется от средней части храма глухой стеной. Эта часть храма соответствует двору ветхозаветной скинии, куда могли входить кроме иудев также и язычники. В притвор христианского храма могли входить не только оглашенные и кающиеся, известные под именем слушающие, но и иудеи (по крайней мере с IV в.), еретики, раскольники и язычники, для слушания слова Божия и поучения. В древности в притворе устраивалась крещальня, то есть купель для крещения.
В древности в русских храмах часто притворов не было вовсе. Это связано с тем, что ко времени принятия Русью христианства в церкви уже строго не отделялись оглашенные, то есть готовящиеся принять крещение, и кающиеся. К этому времени людей уже крестили, как правило, в младенческом возрасте, причём крещение взрослых иностранцев было не так часто, чтобы ради этого делать притворы. Те христиане, которые за греховное поведение или проступки получили церковное наказание – епитимию, стояли некоторую часть церковной службы у западной стены храма или на паперти.
В дальнейшем все же опять возобновилось строительство притворов. Собственное название этой части храма – трапеза, поскольку раньше в ней устраивались угощения для нищих в праздничные дни или дни поминовения усопших. Теперь практически все православные храмы имеют притворы.
В настоящее время по Церковному Уставу они имеют богослужебное значение: здесь совершаются литии во время всенощного бдения, повечерие, полунощница и оглашение, панихиды по усопшим. В притворе даётся женщине очистительная молитва родительнице в 40-й день после родов, без неё невозможно входить в храм. Иногда в притворе, например, в монастырях, устраивается трапеза после литургии, подобно тому, как в древности здесь же, вслед за таинством причащения, для всех верующих приготовлялся ужин или вечеря любви. Дозволяется мирянам приносить в притвор в день Пасхи куличи, сыр и яйца для освящения.
Вход в притвор с улицы устраивается в виде паперти – площадки перед входными дверями, на которую ведёт несколько ступеней.
Овоид - замкнутая выпуклая плоская кривая, состоящая из дуг окружности. В отличие от овала он имеет одну ось симметрии.
Перцептивная перспектива - (лат. perceptio – восприятие) изучение ракурсов, визуальной деформации изображаемого объекта в реальной среде; наблюдательная перспектива, зафиксированная в рисунках с натуры.
С внедрением в архитектурную практику построения обратимой перспективы как в ручном, так и в автоматизированном проектировании, появляется возможность использования перспективного изображения в качестве рабочего инструмента проектировщика. В этом случае перспектива выполняется не по готовым чертежам или макетам, а непосредственно по первоначальным наброскам, эскизам, зарисовкам по воображению в процессе творческого поиска. Такой ход проектирования обычно классифицируют как проектирование "от визуального образа".
Ряж – деревянный сруб, погружаемый в грунт и заполняемый обыкновенно сухой, вязкой, жирной глиной или булыжником. В основном применяется к постройкам гидротехническим для устройства основания плотин, молов, набережных, иногда и мостовых опор и пр. Р. рубится из круглых бревен, в виде ящика той формы, которая соответствует плану сооружения, и для большей крепости противоположные стены через известные промежутки стягиваются бревенчатыми якорями. Нередко также (преимущественно в Скандинавии и Америке, где ряжевые постройки очень распространены) Р. делаются из брусьев, обделанных на 4 канта. Если нужно, напр. в мостовых опорах, наружные части Р. обшиваются досками. Р. весьма удобно опускать зимой со льда. Для этого Р. собирается из приготовленных бревен на том месте, где требуется его погрузить, затем вокруг него прорубают во льду борозды (майны), после чего по мере загрузки камнем Р. садится на дно.
Толос, фолос (греч. thоlos), в древнегреческой архитектуре круглое в плане сооружение (святилище, гробница, памятник, музыкальный зал).
В XVI-XII вв. до н. э. толосы были распространены на Крите, в Греции (например, толос в Эпидавре (360-330 до н. э., археолог Поликлет Младший), в Дельфах (начало IV в. до н. э., Феодор из Фокеи) и на западном побережье Малой Азии.
Наиболее грандиозные толосы (диаметр и высота до 14 м) XIV век до н. э. открыты в Микенах. В Фессалии и на Крите толосы строили ещё в VIII в. до н. э. Известны подкурганные толосы VII-VI вв. до н. э. в Этрурии и V-IV вв. до н. э. во Фракии. Последним близки склепы керченских Золотого кургана и Царского кургана (IV в. до н. э.).
Циркумспектива - Сферическая перспектива
Вид перспективы, где несколько точек зрения; присутствуют также наклон вертикальных осей к центру и разворот плоскостей к переднему плану. Сферические искажения можно наблюдать на сферических зеркальных поверхностях. При этом глаза зрителя всегда находятся в центре отражения на шаре. Это позиция главной точки, которая реально не привязана ни к уровню горизонта, ни к главной вертикали. При изображении предметов в сферической перспективе все линии глубины будут иметь точку схода в главной точке и будут оставаться строго прямыми. Также строго прямыми будут главная вертикаль и линия горизонта. Все остальные линии будут по мере удаления от главной точки все более и более изгибаться, трансформируясь наконец в окружность. Каждая линия, не проходящая через центр, будучи продлённой, является полуэллипсом.
[1] Имеются в виду также главы, касающиеся искусства, в кн.: Б.В. Раушенбах. Пристрастие. М., 1997.
[2] Об этом напомнил исследователь и библиограф И.П. Павлова Н.А. Григорьев. См.: "Поиск". № 7 от 18 февраля 2000 г. с.14.
[3] Во всяком случае, не без посредства скульптуры. Как иначе информативно изображать двухмерно человеческое тело в ракурсе?
Из раздела Бюллетень «Гуманитарная интеллектуальная собственность» (приоритет научных идей) // Академические тетради №1. Независимая академия эстетики и свободных искусств, Театр «Школа драматического искусства» 1995
Новаторские гуманитарные идеи.
Н. Балашов.
Новый взгляд на различительные особенности западноевропейской литературы и искусства Ренессанса и XVII столетия
До настоящего времени самой устойчивой концепцией в этой области остаются взгляды Г. Вельфлина, но и они не дают достаточно точных критериев, а период XVII столетия сводят к одному барокко. Мы предлагаем дополнить существующие системы разграничения двумя новоустановленными критериями, а XVII в. представить в его действительном виде как эпоху четырех основных художественных направлений.
I. Характерной особенностью ренессансного художественного образа является его колебание на месте встречи между идеальным и жизненно-реальным. Челночное движение между ними зафиксировано Шекспиром в словах о скольжении глаза поэта "С небес на землю и с земли на небо" ("Сон в Иванову ночь", V, I, 12 - 13). Идеальное начало понималось со времен Данте до Эразма и даже до Шекспира в духе Платона и проникавшего на Запад, в частности через И. С. Эриугену, богословского умонастроения, склонявшегося к небытию зла перед Богом и к мысли о конечном распространении на всех благодати спасения (апокатастасис: всеобщее восстановление). Гуманная концепция апокатастасиса шла от старших греческих отцов Церкви, начиная с Оригена (II в.) и до -Василия Великого и Григория Нисского (IV в.). Она опиралась и на Платона, и на встречающееся в Евангелии отождествление "доброго" и "прекрасного (агатос кай каллос). Учение Платона и мысли греческих отцов встречались с порожденным ренессансной действительностью представлением о "уомо виртуозо" Так складывалось встречное движение на манер; хождения вола на пахоте (бустрофедон) и называвшегося так же архаического греческого письма, в котором одна строка писалась еще на финикийский манер справа налево, а следующая уже на греческий — слева направо. Система ренессансных образов строилась по бустрофедонному принципу, и образ возникал в пункте встречи идеального и ренессансного жизненно-реального. Этот образ легко узнаваем потому, что в нем присутствуют оба начала: Иисус Христос, Богоматерь, святые — всегда отчасти люди; а в каждом достойном человеке всегда есть отблеск божественности.
Колебание между двумя этими началами образцово "вписано" Петраркой в сонет 159. Петрарка, творя образ божественной красоты Лауры, сначала идет от идеала и спрашивает: "Ее творя, какой прообраз вечный // Природа-Мать взяла за образец //В раю идей? (Перевод Вяч. Иванова). В конце сонета мысль поэта; следует по бустрофедону — во встречном направлении: оценить идеальное в Лауре не сможет тот, кто не видал ее в жизни, не видел "живых ее очей".
II. Когда наступает нарушение бустрофедонного равновесия, наступает кризис ренессансной художественной системы. Первым проявлением этого кризиса был маньеризм, при котором жизненно-реальное заменяется конструкцией выработанной искусством прошлого условной формы: "ла маньера"
Разрушение гармонии бустрофедона означает конец Ренессанса и наступление художественного периода XVII в. Оно происходило в четырех вариантах и дало начало не только барокко, а всем четырем направлениям литературы и искусства XVII века.
(1) Впервые это началось в конце XVI—начале XVII в. в пикарескно-бытовом направлении в романе и в караваджистском направлении в живописи, и особенно в фламандской и голландской жанровой живописи. В этом пикарескно-бытовом направлении, которое раньше у нас называли "реализмом XVII в." жизненно-реальное подавляло идеальное и ренессансная гармония исчезала.
(2) В классицизме XVII в., напротив, идеальное, воспринимаемое в рационалистическом духе, подавляло жизненно-реальное, что тоже иссушало гармонию ренессансного бустрофедона.
(3) В барокко могли сохраняться и жизненно-реальное, и идеальное, но они выступали как противостоящие друг другу, и вместо взаимозависимости на первый план выходили столкновения, которые не совмещались с ренессансным бустрофедоном и гармонией.
(4) Четвертое суммирующее направление как бы подводило итоги трем другим и отчасти сохраняло бустрофедон. Однако он был ослаблен тем, что идеал виделся лишь в туманной перспективе и не столько по-платоновски, сколько в отдаленной евангельской и греческой староотеческой традиции. Сами писатели и художники лишь смутно различали идеал и не стремились внушить уверенность в возможность его воплощения у читателей и зрителей. У Рембрандта сам Христос нередко хрупок и кажется неуверенным и тленным. Четвертое направление представлено самыми зрелыми (послеримскими картинами Караваджо, наиболее проблемными вещами Тирсо де Молины, Дж. Донна, Мильтона, Мольера, Веласкеса, Рембрандта, Вермеера, Якова ван Рейсдаля.
III. Второй выдвигаемой автором отличительной особенностью Возрождения является не осознанное точно в то время переосмысление аристотелевской категории катарсиса как очищения реципиента произведения искусства страхом и сопереживанием, как эта категория выражена в сохранившейся части "Поэтики". В эпоху Ренессанса, начиная с Боккаччо и Симоне Мартини, художественное воздействие стало восприниматься также в том смысле, в котором оно намечено в "Политике" Аристотеля в рассуждении о музыкальном воспитании — т. е. как очищение красотой и наслаждением. Эту форму очищения Аристотель в "Политике" обещал разъяснить в своей "Поэтике", но соответствующая часть этой второй книги утеряна. Мы реконструируем эту чрезвычайно важную категорию, свойственную в частности аполлоническому началу в античном искусстве и преобладающую в художественной культуре Возрождения (в частности в Италии — с XIV века) особым почти синонимичным понятием apocatharsis (которое сохранилось в трудах Аристотеля не в переносном нравственном, а в физическом смысле). Бустрофедонное соотношение идеального и жизненно-реального, так же как и преобладание тенденции к апокатарсису являются двумя новыми точными критериями, способствующими трудному делу разграничения литературы и искусства Ренессанса и XVII века.
Мои научные изыскания привели к установлению нового точного критерия различения Ренессанса и искусства XVII столетия. Для ренессансных литературы и искусства характерно постоянное движение между идеальным и жизненно-реальным, скольжение "с небес на землю и с земли на небо" (Шекспир). Это колебание образует рисунок, подобный движению вола на пахоте туда и обратно ("бустрофедон"). Ренессансный образ складывается в момент сближения встречных движений. С эпохи Возрождения идеал представлен в первую очередь платоновской философией при известном влиянии учения греческих отцов церкви от Оригена до св. Григория Нисского о конечном всеобщем божественном спасении ("апокатастасис").
Все четыре направления литературы и искусства XVII столетия отличаются от Возрождения тем, что утрачивают бустрофедонную гармонию идеального и жизненно-реального:
(1) за счет подавления первого вторым — плутовской и бытовой роман, караваджизм, фламандская и голландская жанровая живопись (такое направление раньше неправомерно называлось у нас "реализмом XVII в.");
(2) за счет подавления второго первым (классицизм);
(3) за счет негармонического противопоставления идеального и реального (барокко);
(4) за счет вынужденного ходом истории отдаления идеального в туманную перспективу, хотя в принципе сохранилось его соотношение с реальным (суммирующее направление).
По материалам ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА, 2009, том 68, № б. с. 45-56
ИЗ ИСТОРИИ
ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ
"КОРОЛЬ ЛИР" ШЕКСПИРА ГЛАЗАМИ АВТОРА "НЕИСТОВОГО РОЛАНДА"
© 2009 г. Н. И. Балашов
В статье прослеживаются некоторые трагические мотивы "Неистового Роланда", которые - независимо от Ариосто - получили развитие в шекспировском "Короле Лире". В то же время особо выделяется мысль о невозможности жить лишь одним необходимым (провозглашенная в первых же словах отвергнутого собственными дочерьми короля Лира), близкая итальянским чинквечентистам* и гуманизму Возрождения вообще.
The article traces the presence of certain tragic motifs of the "Orlando Furioso" which, independently of Arioslo, its author, - were developed by Shakespeare in "King Lear". Especially highlighted is the idea proclaimed by Lear right after he was disavowed by his own daughters: that is, that life is unlivable when reduced to basic necessity. In this he is close to the Italian cinquecentists and the humanism of the Renaissance, in general.
От редакции
Публикация статьи приурочена к 90-летию выдающегося отечественного филолога, академика Николая Ивановича Балашова(1919—2006), многолетнего члена редколлегии и активного автора нашего журнала. В ней отчетливо проявились особенности, свойственные его работам вообще: парадоксальность мышления и широчайшая эрудиция. Статья, написанная в 1997 году, при жизни ученого не была опубликована. Извлечена из архива и подготовлена к печати Т.Д. Гиреевой-Балашовой в апреле—мае 2009 года.
1. Вводные замечания
Конечно, Ариосто (1474-1533), скончавшийся за 31 год до рождения Шекспира и за 73 года до возникновения шекспировской трагедии, земными очами не мог даже вдали разглядеть нечто подобное этому произведению, трагичнейшему, быть может, со времен античности. Но сразу напомним, что итог своей поэме Ариосто подвел словами: "Рro bono malum" - "Злом за добро", словами, которые могли бы послужить лаконичнейшим выражением хода "Трагедии о Короле Лире".
Тем не менее сопоставление названных произведений не представляется многообещающим. Речь ведь идет о сравнении самобытного гениального романа-эпопеи, самого многосюжетного и хитротканного в приключенческом жанре, с монолитом трагедии, в которой вторая тема (тема Глостера) призвана, прежде всего, подтвердить мрачную закономерность темы Лира.
К тому же, коль уж прослеживать связь обоих произведений, нужно считаться с тем, что Ариосто, как Пушкин, в принципе адекватно не переводим (если отрывок из первого, как случилось однажды, не переводил второй). "Неистовый Роланд" как превосходное поэтическое произведение не объясним одной лишь словесной структурой и поэтому во всей красе трудно доступен для неитальянцев, как Пушкин до сих пор полностью не доходит до нерусских.
У немногих других поэтов в такой мере предмет поэзии в равной степени выражен в словах и в словесной музыке. В "золотых октавах" Ариосто, да когда еще их ряд образует число 4.842, невозможно передать их музыку, слитую со словами, синхронную словесной части текста, но не подлежащую нотной фиксации.
Музыка стиха отличается от музыки в собственном смысле тем, что она не поддается нотной записи. Как ни старайся, запамятовав страницу подлинника, перестав его декламировать или читать (хоть про себя), обретаешь полсмысла стихов Ариосто (или Пушкина). При словесно-дискурсивном изложении или сопоставлении есть риск получить размытую, трепещущую модель, подобную тем теням, которые в Платоновой притче мерещились узникам, закованным в пещере спиной к выходу, спиной к свету.
Осуществить в переводе полноценное воспроизведение "Orlando furioso", пожалуй, не легче, чем словесно представить себе и "рассказать" другому лицу собственно музыку. В некотором отношении это "еще невозможнее", нежели настолько определенно изложить словами инструментальное произведение так, чтобы слушатель получил хотя бы приблизительно такое же впечатление (пусть для него "невысказуемое"), такое удовольствие, как если бы он сам прослушал это произведение.
Ввиду особых свойств музыки обратное действие (через "выразительность") в некоторой степени возможно: стоит вспомнить знаменитый рассказ Константина Паустовского о Моцарте -"Старый повар".
2. Роль изречения "Злом за добро" в поэме Ариосто
После такого минорного введения остается либо в петлю лезть, либо, благословясь, постараться все-таки объяснить, в чем может быть усмотрена связь "Роланда" и "Лира". (Для не полностью "итальянизировавшегося" русского читателя такому опыту может помочь подвижнический перевод всей поэмы, осуществленный, хоть и свободным стихом, М.Л. Гаспаровым, снабженный на редкость тщательно выполненным научным аппаратом, изданный в серии "Литературные памятники" [I][1].)
Главным образом в том, что "Неистовый Роланд", как и "Король Лир", типологически стоит на том взлете ренессансной литературы, за которым так или иначе ощущается предвестие конца эпохи Возрождения. Иными словами, дело идет к интенсивному сочетанию светлого, часто в комической форме, с трагическим, даже с неизбывно трагическим оттенком, у Макиавелли, у Ариосто и Тассо, у Лопе дс Веги, у Сервантеса, у Шекспира.
Недаром Пушкин, который во младости (в одной из редакций "Руслана и Людмилы") воспринимал творение Ариосто как радостно-шутливое (см. [1, т. 1, с. 5]), позже, когда он уже свободно овладел итальянским, в ожидании ареста и новой ссылки (июль 1826 г.) переводил трагичнейшие стихи поэмы [2, т. 3, ч. 1 и 2, с. 14, 569, 126], в которых объясняются причины безумия Роланда (ср. сцены с Лиром в степи, а затем сцены, когда теряющий окончательно разум король появляется с телом мертвой Корделии на руках).
Три прижизненных издания "Неистового Роланда" вышли в свет после десятилетней работы (сначала в 1516 и 1521 годах, в 40 песнях, а в 1532 г. - в 46 песнях. Все они казались большинству современников преисполненными радостным духом Возрождения, тем более, что по словесному смыслу ассоциировались не только с мажорным народным эпосом Кватроченто*, но и с веселой новеллической традицией, а к тому же аккомпанировали сами себе звонкостью своих "золотых октав".
Издания поэмы Ариосто отличались друг от друга больше не тем, что они описывают, а тем, как они написаны: преодолением элементов феррарско-ломбардского диалекта, все более всеитальянской чистотой языка, изжитием того, что перечило певучести и гармонизации поэмы. Это на практике соответствовало взглядам Пьетро Бембо (1525) о прозаических возможностях "народного языка" (т.е. не латыни): исходить в прозе и стихах из унифицирующей традиции тосканского (флорентийского) наречия, утверждавшегося как общеитальянский язык еще со времен Треченто (особенно Петраркой).
Продолжая "Влюбленного Роланда", не законченного, точнее, прерванного Боярдо (1440-1494), Ариосто ткал сюжетные рисунки вокруг условно изображенного "сарацинского нашествия" на Европу Карла Великого, докатившегося до самого Парижа, "столицы" империи Карла.
Одной из главных причин поражения христиан в поздних произведениях каролингского эпоса стало то, что непобедимый Роланд отвлекся от обороны страны из-за страсти к китайской принцессе Анжелике, уводившей и многих других влюбленных в нее рыцарей. Эта сюжетная линия, завуалированная переплетением вставных "новелл" о любви, подвигах и поражениях отважных героев, приключениями любимых ими дам, кознях волшебников и волшебниц, сплеталась с проводившейся под сурдинку линией предательств. Вершиной развития этой сюжетной линии и всей поэмы стал напряженнейший эпизод, когда Роланд узнал об измене любимой дамы: о любви Анжелики (отказавшейся от самых знаменитых героев) к совсем непримечательному юноше Медору.
Тут-то Роланд "правду видит, видит ясно" и впадает в безумие (пора подумать о Лире, узнавшем правду). Роланд впадает в неистовство, делается, как сказано в заглавии поэмы, Orlando Furioso (этот главный эпизод и перевел Пушкин).
Кроме перипетий сражений с сарацинами, где герои, как правило, соблюдают рыцарское благородство, изображены и такие, которые совершают чудовищные предательства, платят злом за добро (Рro bono malum).
Помимо темы войны с "неверными" и темы безумия человека, увидевшего правду, есть в поэме еще и третья линия. В ее развитии Ариосто дал волю своему воображению, и она, может быть, самая изощренная. Но эта линия связана и с тем, что поэт, витавший на гиппогрифах ("летающих скакунах"), нес в Ферраре у Эсте довольно тяжелую службу, по преимуществу как дипломат в наиболее безнадежных делах, ибо ему нужно было содержать близких, да и самому тоже есть.
Чтобы иметь время и возможность творить, ему приходилось хоть как-то служить правителям Феррары из рода Эсте - герцогу Альфонсу I и его брату кардиналу Ипполиту Эсте, на службе у которого преимущественно пребывал Ариосто. А им было трудно угодить службой, тем более поэзией, которую они не очень ценили даже как лесть. Вокруг одного из своих персонажей - героического Руджиера - автору пришлось "сплести" целый роман как о зачинателе рода Эсте. (Поэт обратил своего героя в христианство и после многосложных, невероятно трудных испытаний, наконец, женил на христианской воительнице Брадамантe).
В таком развитии сюжета Ариосто следовал печальному примеру Вергилия, который медной десницей власти был вынужден провести от Энея и его сына Пула род "божественных" Юлиев и, следовательно, Октавиана Августа.
Известно, что в итоге Вергилий хотел сжечь "Энеиду", а Ариосто рвался дописать к поэме в 1510-1520-е годы мрачную и морализирующую концовку "Пять песен" ("Cinque canti"), долженствовавших снизить "государственный" тон финала. В них поэт в той или иной степени предварял Торквато Тассо - великого поэта (1544-1595), которого Альфонс II д'Эсте довел до безумия и посадил в 1579 г. на семь лет на цепь в феррарском сумасшедшем доме.
Следует сказать, что прижизненное опубликование "Пяти песен"[2] в Ферраре с известной вероятностью грозило бы Ариосто опалой, конфликтом с властями; а, может быть, он смутно опасался оказаться на цепи, метафорически или прямо, раньше своего славного продолжателя. Ведь в них отчетливо, слишком отчетливо, выступала тема предательства, тема слепого повиновения государя очевидным клеветникам (вроде Ганолона), тема угрозы развала государства по вине глупой бессмысленности правителей. Все это могло напомнить Феррару начала XVI века - Феррару д'Эсте. Заключительные слова "Неистового Роланда" - "Злом за добро" - как бы становились заглавием продолжения поэмы. Это поставило бы Ариосто уж не в Предлировы, а в Лировы параметры.
Хотя без "Пяти песен" (дальнейшего, будто намечавшегося, продолжения поэмы) тема самого Роланда, главного героя, обрывается несколько странно, зато старая концовка - с прославлением рода Эсте - несколько развязывала узы зависимости Ариосто, ибо, как глухи к музыке поэзии ни были Эсте, они знали, что получившему известность тирану в тогдашней Италии подобало быть основательно воспетым.
Всех неожиданностей поэмы Ариосто не перечислить. Мало того, что поэт сглаживает различие между сказочными христианами и сказочными сарацинами, он касается еще одной темы, опасно актуальной во времена мечтаний об объединении всех христиан под властью папы. В последних песнях неслыханное, невероятное состязание в дружбе и самопожертвовании происходит между Руджиером, обращенным в католическую веру, и православным Леоном (сыном константинопольского императора). Употребляется постоянно разъясняющее слово "Greco" (грек), которое на Западе тогда обозначало прежде всего именно православного. Апологетическое изображение православного зерцалом жертвенной верности и преданнейшим другом Руджиера, вчерашнего мусульманина, прославление беспримерной взаимной самоотверженности могло повлечь за собой такие же последствия, как примерно в то же время при Иоанне III Московском воспевание подвигов "латина"...
Отдав дань "хвалы" Ипполиту д'Эсте и создав поэму без начала (начало принадлежало Боярдо) и без иного конца, кроме посрамления предательства, процветавшего в итальянских дворах, словами "Злом за добро", поэт и закончил -композиционно, идейно, музыкально - свою поэму.
"Пять песен" были уже не нужны. Они достаточно подразумевались в изданном...
2. "Неистовый Роланд" в контексте Чинквеченто
"Неистовый Роланд", несмотря на заключенное в нем предчувствие трагедии, проникнут и контрапунктной по отношению к этому предвидению надеждой поэта. Сочетание этих двух противоположных начал и служит основой гармонии произведения.
Автор "Неистового Роланда" отнюдь не был только грозным пророком, предвидевшим Лировы времена. Про Ариосто все-таки нельзя сказать с такой определенностью, как он про Роланда: несчастный "правду видит, видит ясно".
На дворе стояло только начало Чинквеченто: Флоренция, Рим еще цвели. Куда ни глянь - возникали градостроительные планы Леонардо, Браманте, Рафаэля, Микеланджело. Кто картинами, кто фресками - блистали и названные мастера, и многие другие. Это были почти современники Ариосто: Коррсджо, Бальдассаре Перуцци, друг Рафаэля, и быстро восходивший, тогда молодой, Тициан.
В пасторалях (вроде "Аркадии") Саннадзаро и его многочисленных продолжателей, перешагнувших за формальную грань века, вплоть до Сервантеса, Лопе де Веги и его современников, и самого Шекспира, как и у Ариосто, жили наивные надежды сохранить или даже утвердить (как некую явь или как будущую явь, а не как сны летних ночей) утопический мир, каким он мог бы быть и, как казалось людям Возрождения, едва ли не стал.
Это был мир читателей и зрителей, поэтов и художников, всё еще полных энтузиазма, но нередко задетых сомнением и являвших прекрасное в жизни с саннадзаровски-ариостовской нотой грусти и как бы шутя, как бы в виде шутки (как Шекспир в пьесах, подобных "Зимней сказке"), будто в последний раз, без исходной уверенности Кватроченто, мечтавших, что такой жизнь вот-вот станет и пребудет.
Шутливый "Роланд" Ариосто грустен наподобие "Аркадии" (издана в 1504 г.) Джакопо Саннадзаро. Известное изречение "Et in Arcadia ego..." обычно понимается как "И я бывал в Аркадии счастливой...". Но у Саннадзаро эти слова обозначают противоположное, так как их произносит Смерть. Эту поэтическую грусть по-своему развивали в пасторалях Монтемайор, Сервантес в "Галатeе", Реми Белло, Сидней и Лопе де Вега в своих "Аркадиях", а с большей условностью — писатели XVII века.
Эта своеобразная нескончаемая поэтическая реплика, сотворенная в других, отчасти более земных ракурсах реальности, относилась к "Утопии" Томаса Мора, утопическим исканиям Луиджи Пульчи, Франческо Колонны, Рабле и Лукаса Кранаха Старшего.
В "Неистовом Роланде", вобравшем в себя "разом" и Пульчи, и Боярдо, и простоту Саннадзаро, больше веселости, больше влюбленности, но и зато куда больше элементов фантазии и мрачного скепсиса. Поэзия XVI века пройдет, если не считать воздействия древнеримских поэтов, "на три четверти" под знаком комбинированного влияния Петрарки, Полициано, Саннадзаро, Ариосто и Мора как автора "Утопии"; а у Сиднея в "Новой Аркадии" станет подготовительным шагом к театру Шекспира ("одна четверть" все-таки останется за Данте, Чосером, Вийоном и за средневековой, позднеготической традицией).
Наряду с "Похвалой глупости" Эразма, с немецкими литературными произведениями и картинами того времени, с гротескными зарисовками Леонардо да Винчи, с причудливыми вещами Пьетро ди Козимо, флорентийского художника, сочетавшего саркастическую фантастику с редким тогда натурализмом, в чем он, конечно, уступал своему фламандскому современнику Иерониму Босху, с жестокостями Дирка Баутса, "Неистовый Роланд" - одно из первых - до Сервантеса, Шекспира и Донна - ренессансных произведений не только о движении вперед, как у Полициано и Лоренцо Медичи, но и новой, уловленной въедливым Макиавелли, угрозе поворота мира героев и мудрецов к опасности отчаяния и безумия.
В соответствии с традицией, с Боярдовым "Влюбленным Роландом", с "Аркадией" Саннадзаро, в первых строфах и часто дальше явная причина страданий и безумия - любовь. Однако любовь выступает у Саннадзаро и Ариосто и как мировосприятие, как вера в людей, в правду, в справедливость. И хотя эта идея не всегда так четко высказывается, как у Шекспира, но результаты вынужденного, трагического отказа Роланда от любви сродни смене отношения к миру Марка Антония, короля Лира, Тимона Афинского, когда их представления порушились. Безумие Роланда родственно "безумию" самогó влюбленного поэта, безумию разочаровавшихся мудрецов (D´uom che si saggio era stimato primo...Che´l poco ingegno ad or ad or mi lima [3]).
И о Роланде в песне расскажу я
Безвестное и прозе и стихам:
Как от любви безумствовал, бушуя,
Герой, недавно равный мудрецам.
Все это я исполню, торжествуя,
Коль бедный разум сохраню я сам,
Уже едва ль оставленный мне тою,
Что не Роландом завладела - мною.
Такова вторая строфа "Неистового Роланда" в переводе Ю.Н. Верховского (1938), точно соединяющая (как в подлиннике) реальное безумие идеального героя с условным безумием поэта.
Приближалось время быть безумным, разъяренным, "одержимым" (furioso) или "ужасным" в непреклонности, как Микеланджело; делалось своего рода девизом понятие terribilità. Не приближалось ли время стать безумным, как Юнипер у Лопе де Веги, как Тимон Афинский у Шекспира, как сам Лир, "король от головы до пят"?
Конечно, в поэме Ариосто полно и рыцарей, легкомысленных женолюбцев, и подобных Ринальдо у Пульчи, но главное - речь идет о мировоззренчески-трагической любви, встречающейся с вероломством общества.
Безумие Роланда не просто умопомрачение от страсти. И по небольшим отрывкам, поистине гениально избранным для переложения из огромной поэмы Ариосто Пушкиным, видно, что Орланд и Ариосто - и герой, и поэт начала XVI столетия -осознавали сложности, трудную правду своего времени и последующих столетий. Путь к ренессансной гармонии оказывался не так уж прост и прям, пролегал сквозь опасность заблуждений, сквозь вновь представший перед отважными и смотрящими вперед дантовский темный лес. Чтобы пояснить это, прежде всего следует привести великое эскизное подражание Пушкина выбранным им картинам безумия Роланда (XXIII, октавы 100-112).
Эти октавы являются поворотными и в композиции всей поэмы Ариосто, занимают буквально eе центр: из 46 песен - 23-ю, причем расположены они почти точно у самой середины поэмы (в 23-сй песне 136 октав).
В истории литературы Возрождения взгляд XVI и последующих столетий в октаве 111 выражен с особой силой.
Мы решаемся выделить главную мысль в пушкинском переводе[3] курсивом. Роланд узнает о совершившейся измене Анжелики:
а Два, три раза, и пять, и шесть,
б Он хочет надпись перечесть;
в Несчастный силится напрасно
г Сказать, что нет того, что есть.
д Он правду видит, видит ясно,
е И нестерпимая тоска,
ж Как бы холодная рука,
з Сжимает сердце в нем ужасно...:
Quello infelice, e pur cercando in vano
Che non vi fosse quel che v'era scritto;
E sempre lo vedea piú chiare e piano:
Ed ogni volta in mezzo il petto afflitto
Stringersi il cor sentia con freda mano.
По этим потрясающим стихам (в—з) видно, что Ариосто последним зрелым периодом своего творчества включен не только в Чинквеченто, но смотрит и дальше. Он не только действительно продолжает поэмы Боярдо и Пульчи, а если иногда и пишет нечто типологически схожее со стихами кватрочентистов - Полициано, Лорeнцо Медичи, то это можно объяснить не просто тем, что город Ариосто Феррара, как и Неаполь Саннадзаро, исторически отставали от развития Флоренции, а тем, что они - первый в своей "Аркадии" (1481-1504), а второй в своем "Неистовом Роланде" (1507-1532) - не только обгоняли флорентинцев в прозрении проблем Чинквеченто, но и тем, что новые противоречия грознее выступили на "периферии", чем в самой Флоренции.
Взгляд от Чинквеченто в сгущающиеся тени будущего освещает бытийные художественные проблемы вперед - на дальнейший ход Возрождения до его постепенного завершения в творчестве поэтов - от Торквато Тассо до Сервантеса, Шекспира, Лопе. Путь просматривается вплоть до таких вещей, как "Король Лир" и стихотворения Донна, как отправной момент в эпосе Агриппы д'Обинье.
Выделенные курсивом стихи Ариосто (в переводе Пушкина) изображают как будто совсем другую сюжетную ситуацию, чем та, которая представлена в третьей сцене пятого акта "Короля Лира", когда король, выходящий с телом Корделии на руках, силится уверить себя, что она жива.
Но внутренняя эстафета, сходство на пока скрытом, не поверхностном уровне очевидны: весь "Лир", написанный в 1606 г., через 99 лет после того, как был начат "Роланд", может быть рассмотрен также и как "симфоническая" парафраза сонатно сжатых строк из XXIII песни Ариосто.
Трагедия "Король Лир" - тоже "Lear furioso". "Неистовый Лир" обезумел, как и Роланд, потому, что увидел правду. Мы не скажем: потому, что "прозрел" правду. Безумцами и мудрецами от попытки примерить правду к жизни в конце Возрождения становятся и "слепцы" в прямом смысле, как Глостер, и в переносном, как Дон Кихот.
Ариосто еще не додумался до такой "язвы времени", когда "слепых ведут безумцы" ("...the madmen lead the blind" [4, IV, I][4]).
"Король Лир", как и "Дон Кихот" (герой которого в Сьерре-Моренe прямо следует Роланду), продолжают ариостовский скрытый синтез жанров, важнейших для конца Возрождения и для XVII века, а затем для Нового времени: драмы и романа. В трагедии "Король Лир" осуществлено предшествующее романному синтезу Нового времени более сильное, чем у Саннадзаро и у Ариосто, изображение неразрывности проблематики государства с нравственной, личной проблематикой. Это не наивная рядоположенность средневекового искусства, последним отзвуком которого были орнаментальные повторы в пламенеющей готике и готические тенденции в заальпийской ренессансной живописи.
Новый, крупный синтез (видимо, особенность Возрождения) в разных ориентационных направленностях и в разных модальностях является еще в "Декамероне" и в "Канцоньере", а в живописи - утверждается у Мазаччо. Он сопутствует главному в Ренессансе органическому сочетанию идеального с реальным, толчку, маятниковому колебанию между этими началами, бустрофедону[5], когда алкая идеального, видят его в отношении с непростой окружающей нравственной ситуацией. В итальянской, французской, фламандской архитектуре нечто родственное несомненно (но архитектура, как искусство выразительное, сложно поддается иному познанию, чем интуитивному).
В живописи Кватроченто бустрофедон определенно наблюдается у Мазаччо, в живописи Яна ван Эйка (см. "усмешку дьявола" в правом нижнем углу Гентского алтаря), у Антонелло да Мессина, у Пьетро ди Козимо, у Босха там, где он хотя и не благостен, но не очень едок ("Поклонение пастухов" - в Брюсселе); в поэзии XV в. - в медицейском окружении, у Полициано, у самого Лоренцо, особенно у Пульчи, от которого бустрофедонная синтетичность переходит к "Неистовому Роланду" (и к комедиям Ариосто).
4. Ариостов Роланд и Лир
В трагедии "Король Лир" еще очевиднее, чем в разноплановости картин ван Эйка, чем в поэме Ариосто, проблематика государства, философии, политики, гражданских войн органически, почти как в послесервантовском романе, сочетается (как указывалось) с нравственной - семейной и личной проблематикой, где реальное тщится подавить идеальное. В средневековом феодальном обществе, которое согласно букве фабулы изображается и в "Лире", и в "Роланде" (формальная хронология действия обеих вещей совпадает: 790-е годы в "Лире", 770-е в "Роланде"), такая связь была сеньориально-произвольной (как в "Роланде") или вотчинно-домостроевской (как в "Лире"). В том и в другом случае - "наивной".
Общественно-личная цельность выступает в "Короле Лире" не в доминировавшем в Кватроченто положительном реально-идеальном плане, но больше в том - катастрофически-разрушительном, который пояснен в 111 октаве XXIII песни "Неистового Роланда": "Несчастный силится напрасно / Сказать, что нет того, что есть..." ("...Che non vi fosse quel che v'era scritto").
У Шекспира в "Короле Лире" это "катастрофически-разрушительное" заметнее всего.
Оно является то "наивно", по-средневековому, у Лира (пока гонения старших дочерей и буря в степи не научили его уму-разуму - безумию) и у группы хищных и бесстыдных персонажей на основе рассчитанного, самооправдывающего аморализма; то на основе аморализма "социального", со ссылками на дух времени, будто могущего быть оправданным, как у обделенного в семейном отношении и безгранично властолюбивого "бастарда" Эдмунда; то на основе аморализма феодально-тошнотворного - у насыщенных до отказа земными благами старших дочерей Лира, сестер-герцогинь. Их чудовищная атрофия семейного чувства к отцу, к младшей сестре, к мужьям, друг к другу, объединяясь в один змеесплетенный жгут с неуемной жаждой расширения власти и с похотью, приводит к совершающемуся в драме самоистреблению, к общественной и личной необходимости устранения их самих.
Никто из этих персонажей нравственно не "поднялся" и до худшего в современном "Неистовому Роланду" циничного персонажа - властителя в "Государе" Макиавелли.
Даже "размышляющий" избранник обеих сестер Эдмунд заботится о государстве не больше, чем они, и на их же уровне. Объективно он высказывает им приговор: "Кого же предпочту? / Одну? Обеих? Ни одну? Нет счастия, / Покуда обе живы..." (перевод здесь и далее М.А. Кузмина) [6, V, I]. В подлиннике еще резче: Neither can be enjoyed, If both remain alive..."
Шекспир идет намного дальше рубежа Кватро-Чинквeченто и не ставит на одну доску "старомодные" ошибки ("Несчастный силится напрасно / Сказать, что нет того, что есть...") и заблуждения и преступления Лира или графа Глостера-отца ("...un uom che si saggio era stimato prima" - "как герой [прежде], столь славный своею мудростью" [1, песня 1, окт. 2]) с теоретизированным, хотя и насквозь эгоцентрированным злодейством "новых людей" (изгнание безрассудно щедрого отца в степь, в бурю, вырывание глаз у Глостера, постыдное перетягивание Эдмунда сестрами с одного окровавленного ложа похоти на другое, сестроубийства, убийства в спину и т.п.). В отличие от Пульчи и Ариосто, Шекспир, конечно, лучше видит "новых людей", хотя Ариосто далеко не всегда наивен. Вот сражающиеся "...как зубастые два пса из-за зависти или иной вражды сходятся, скрежеща и кося глазами, красными, как угли, чтоб с хриплым рыком и шерстью дыбом вонзить друг в друга яростные клыки..." [1 , песня 2, окт. 5].
Они, эти "новые люди", у Шекспира пострашнее, чем Анжелика и Медор, забывшиеся в страсти, чем убегающая любимая Эргасто у Саннадзаро, они - преступники и осознают, что топчут мораль ногами. Эдмунд уже в первом акте [6,I, II] еще не "выставив яростные клыки", смеется над теми, кто винит в своих судьбах и бедах расположение светил, ядовито склабится: "как будто подлыми быть нас заставляет необходимость" ("...as if we were villains on necessity"). В устах Эдмунда - персонажа драмы ренeссансного поэта - это двойное самообвинение. Ренессанс, показавший потенциальные возможности человека, совершив великое моральное завоевание, отвергал, начиная со средних кругов "Ада" Данте, оправдательные ссылки на "being villian on necessity".
И если Эдмунд все же обвиняет в своих преступлениях и последовавшем за ними несчастье судьбу, то делает это с оглядкой на квазиренессансные представления, хотя старается обратить их в пустую риторику: "Фортуна завершила круг - я пал" ("The wheel (i.e.:of Fortune)is come full circle..."-V, III). Ведь через несколько минут, умирая от раны, он сам раскрыл активное, но подлое, а с точки зрения конструировавшегося им для себя царственного будущего, скорее опасное, чем необходимое, действие, уже известное зрителю ("мною дан приказ / Лишить Корделию и Лира жизни" - V, III).
Эдмунд осознал свой век (конечно, не гипотетический год 790, как по Голиншеду, а, скорее, некий условный год 1600) как жестокое время; он находит нужным этим и объяснить капитану свой приказ об убийстве короля и пленной Корделии: "Должен человек быть тем, / Что хочет время" ("Know...that men/ Are as the time is(i.e.: ruthless) - V, III).
Вдобавок Эдмунд, сам перебросивший себя из реально-идеальных пространства и времени, из ренессансной хронотопики, в которой (с поправками на поздний и трагический период Ренессанса) живут Корделия, Кент, Эдгар, шут и поумневшие безумцы, в сферу безжалостного антиидеального, нагло называет тот выигрыш, ради которого живет сам и который сулит убийце, ренессансным термином: славная, благородная удача, успех - "noble fortunes" (V, III).
Но, завязывая тугим узлом кошмар, к которому вела при не затухшем тлении средневекового мира вывернутая на старый манер новая философия как оправдание безжалостного эгоизма в общественном и личном (лжегармония - как если играть на рояле, читая ноты задом наперед), Шекспир не подводит к однозначным - с точки зрения сопоставления с Кватроченто - выходам, не подводит к принятию тезиса "be villains on necessity".
Как старательно ни затаптывал в себе Эдмунд всякую тлеющую искру реально-идеального, ему en tant que шекспировскому герою, до конца это не удается. Цепь тлеющих и в нем слабых искорок на мгновение делается видимой, когда справедливо сраженный братом, он, не зная, что его убил в поединке дворянин, говорит, что прощает ему ("I do forgive thee "). Он выражает уверенность не только в том, что время выявит его деяния ("The time will bring out"), но и в том, что его время прошло, как и он прошел "(V, III).
Слова Пемброка (в другой драме Шекспира), что ужас убиения мальчика, принца Артура, "придает... святую чистоту незачатым грехам времен грядущих" ("...the yet unbegotten sin of times / to come/...") ("Король Джон", перевод E.H. Бируковой) - высокая риторика. Но вce же она тоже содержит мысль гигантов синтетического, суммарного направления XVII столетия, Тирсо, Мольера, Веласкеса, Рембрандта, что высшие злодеяния, скорее сейчас и позади, чем впереди. В общем – это еще ренессансные и ариостовские черты: и победа злодейства не представляется вечной, на грядущие века полной победой злодея: "`Tis [the time, his time] past, and so am I" (слова Эдмунда в "Короле Лире" - V, III).
Вечное отрицательное не настает, не настает даже в трагедии о Лире, хотя там Бога и нет, а суть лишь боги.
Вне внутреннего, пусть мало осознаваемого религиозного утешения, утверждение наступления отрицательного навечно означает по существу конец мира. Такая мысль охватывает Кента, Эдгара, Олбени при виде безумного Лира с телом младшей дочери. Лир обличает окружающих, что они "каменные люди" ("...you are man of stones"; раз общим воем (howl) не могут заставить небо оживить Корделию или же заставить небо треснуть (crack). Герои единодушно восклицают, что перед ними либо двойник ужаса светопреставления, либо уже наставший день Страшного суда ("...the promised end" - V, III).
Как ни тяжела трагичнейшая трагедия Шекспира, и в ней в конце концов побеждают все-таки уцелевшие в кровавой свалке люди ренессансной идеально-реальной хронотопики, наследники Пульчи, Альберти, Брунеллески, Мазаччо, поближе - Эразма, Ариосто, Мора, Леонардо, Рабле, Монтеня, Сиднея, а не рабы эмпирически жестокого века, скажем, "подлецы по необходимости".
Это относится и к погибшим с честью, и к оставшимся в живых: к самоотверженному и прямодушному Кенту, к доверчивому и смелому Эдгару, к носителю народной мудрости - знаменитейшему из всех шутов Шекспира, рассеявшемуся в пространстве, как добрые духи в позднейшей "Буре", - даже к кроткому Олбени, делом опровергшему, когда это стало необходимо, издевательские упреки Гонерильи, будто он безвольный "муж молочный" ("milk-livered" - IV, II).
Двое из этих героев, Кент и шут, насколько это возможно в человеческом театре мира, идут в бессмертие. Если вернуться на подмостки трагедии, то герои эти, кроме шута, исчезающего, подобно помершему от смеха озорному полувеликану Маргутте у Пульчи, со словами, что пойдет спать в полдень (III, VI), вплоть до заключительных стихов, сохраняют понимание различия между тем, что они вынуждены принимать из "тягот этого мрачного времени", и тем, что они "должны бы были сказать".
В этом отношении они остаются на уровне ренессансного сочетания идеального и реального. Они, как в начале времени Кватроченто, остаются схожими, насколько человеку это дано - как во фреске Мазаччо об уплате дани при входе в Капернаум - с главным героем фрески - Иисусом.
В этой двойственной оценке в "Короле Лире" отцветает, но цветет неумирающий в позднем Возрождении дух Кватроченто. Обнаруживается, что одна из самых мрачных трагедий Шекспира находится в противоречии с односторонней готовностью подчиниться времени: obey to "the weight of this sad time" (V, III). "Obey" в последних стихах трагедии комментаторы (например, А. Гербейдж) в данном случае поясняют, как "accept"...
И снова напомним Ариосто (XXIII, 111): "Несчастный силится напрасно / Сказать, что нет того, что есть...".
5. Ренессансно-ариостовская диалектика в "Короле Лире", отношения человека с небом и проблема невозможности жизни без излишнего
Все обращают внимание на диалектику активного долженствования в трагедии. Все помнят знаменитый монолог Лира, короля, уразумевшего в степи, под дождем, что он очень мало радел ("... I have ta'en / Too little care of this") о несчастных и голых созданиях (III, IV).
Но мало кто замечает ренессансный, родственный Кватроченто, разбег мысли Лира: он теперь готов в такой мере принять на себя заботы о народе, "чтоб оправдать тем небо" - "And show the heavens more just" (111, IV); буквально: "представить небо более справедливым"[6].
Формально трагедия включена в языческие времена (хотя и происходит якобы в конце VIII века), но урок еще более вопиющ и в христианские: героический идеально-реальный человек способен совершить такие нравственные подвиги, что может ими возместить несовершенство неба!
Перед зрителем-читателем - характернейшее для Ренессанса положение, которое противорeчиво смыкается с противоположной ему спиритуалистической уверенностью людей подлинного барокко в мощи человека, когда он своим примером, своей волей может внутренне преодолеть все насилия, искушения, все земные препятствия, которые ставит ему жизнь, но не вправе ставить перед собой задачу "возместить недостаточную справедливость неба".
Представление о божественном могуществе человека и его страсти стало отчетливым у Данте, было унаследовано Боккаччо, составило неотъемлемый компонент изображения поэта и его донны у Петрарки, а в Кватроченто дало основу идее идеально-реального - осевой характеристике Возрождения, привело к Леонардо, Рафаэлю, Микеланджело. В таком качестве оно перешло к героям Эль Грeко, Лопе де Веги, стремящимся свершить невозможное, наконец, к Сервантесу, которого в середине XX в. зло упрекали, будто он в образе Дон Кихота всерьез представил какого-то безумца способным исправлять Божий мир.
Представление об особом могуществе человека дошло до молодого Донна, который в данном случае в согласии с Петраркой и Сиднеем, с позднейшими пьесами Шекспира, связал возможность исправления мира с любовью поэта и его дамы или с божественным совершенством юного, подобного Имогене или Миранде, существа, называемого Донном "Она" (She).
Противовесом идее человеческого исправления мира, отчасти зависимым от этой идеи, была у людей противоположного склада мечта путем "духовных упражнений" совсем иначе "исправлять" мир - на контрреформационный лад. Но сейчас речь не о замыслах одержимых ретроградов Игнатия Лойолы и Карло Борромео, сколь искусны они ни были.
Сама постановка "исправившимся" королем Лиром проблемы "thou mayst... show the heavens more jast" (скажем: "возместить несовершенство неба") раскрывает стойкость принципов Возрождения, величие и гордость трехсотлетней эпохи - от "вспыльчивого" (stizzoso) Гвидо Кавальканти, постигшего, что добро притягивается к достойным, до столь же пылкого в юности Джона Донна, еще не ставшего знаменитым проповедником.
Эта постановка проблемы раскрывает масштаб мышления Шекспира, масштаб замысла его "Короля Лира". Способность (или готовность) Лира своими, мирскими, средствами показать
небо более справедливым ("to show the heavens more just") как раз и объясняет, что по сути значат слова "Король от головы до пят" ("...every inch a king" - IV, VI). Масштаб этого "королевского" ренессансно-человеческого заявлен именно в сентенции Лира о возможности человеческого содействия большей справедливости неба!
Именно в этой сцене (в степи) принципиально обогащается более употребительное и более жесткоe у Шекспира в сравнении с кватрочентистской "фортуной" и почти "терминологическое" в некоторых случаях понятие "необходимого" (need).
Концепция жесткой необходимости, возникающая в действии многих хроник и трагедий Шекспира, чаще не отражает желаемого автором, а навязана борьбой с кризисным временем.
В "Трагедии о короле Лире" неблагодарные злодейки-дочери, чтобы полностью освободить себя от долга перед королем, лишив его и той тени достоинства и власти, которая была оставлена им себе, пожертвовавшим всем ради них, отказывают вчерашнему могучему монарху в свите сначала из ста, затем из пятидесяти, двадцати пяти, десяти, пяти рыцарях, доводя глумление до предвещающего беду вопроса Реганы: а нужен тут хоть один? ("What need one?").
На это Лир отвечает одним из самых человечных в истории литературы Возрождения и в литературе всемирной вечно своевременным монологом: "Нельзя судить, что нужно" ("О! reason not the need..."): "Нельзя судить, что нужно. Жалкий нищий / Сверх нужного имеет что-нибудь, / Когда природу ограничить нужным, / Мы до скотов спустились бы..." (II, IV).
Этот монолог - вплоть до слов "Шут, я помешаюсь" ("О fool I shall go mad") - один из тех, что выявляют большое человеческое в человеке[7], ставит Лира принципиально выше, "царственнее" всех его противников (и друзей), утверждает царственно-безумного короля в сфере более идеального, чем "жизненно-реального", и точно соответствует ренессансной человеческой кватро-чинквечентистской концепции "избыточного" отношения к человеку. Вспомним хотя бы гигантизм Рабле, его телемские мечтания; все то, что запечатлено в поэзии XV-XVII веков, в размахе архитектуры со времен титана Брунеллески до времен Палладио и кругосветного плавания Магеллана, до будущей классической архитектуры и зодчих стиля Фонтенбло - вплоть до масштаба "Двора прощания", до светской пышности росписей от Беноццо Гоццоли до Галереи Франциска I. Лир сказал нечто соответствующее духу, господствовавшему в итальянской живописи от Мазаччо до Тициана, Веронезе и Тинторетто: её стремлению не скупиться ни в изображении героев, ни в изображении пространства вширь, вдаль и снизу вверх (sotto in su').
Достаточно вспомнить Дюрера и немецких художников итальянизирующей школы, словно "толпящихся" в залах главного этажа мюнхенской Пинакотеки. Это не только Альбрехт Альтдорфер, но и целая плеяда любующихся ярким небом и человеческой энергией живописцев: Иорг Брой Старший (ок. 1472-1537) - "Легенда о Лукреции", "Победа Сципиона под Замой"; Мельхиор Фезелен (ок. 1415-1538) - "История Клелии", "Осада Алезии Цезарем"; Бартель Бегем (ок. 1502-1540) -"Предание о воскрешающем Кресте"; Ганс Шёпфер Старший (ок. 1505-1569) - с его "Историей Сусанны" и "Историей Виргинии".
Пафос монолога Лира сродни пафосу "Неистового Роланда". Он суммирует гуманизм и социальную утопичность Ренессанса вообще, едва ли не всей его архитектуры, живописи, пластики, риторики, смеха, карнавалов, театральных представлений (сам Ариосто был прекрасным постановщиком и режиссером - см. [1, т. 1, с. 503-507]), костюма, маргуттовски-пантагрюэлевского и брейгелевски-йордансовского отношения к плоти, к еде и питью.
Самым ранним сценическим пространством или декорацией для произнесения великого монолога Лира могли бы служить "декамеронный" угол фресок пизанского Кампосанто, беспокоивший сон там почивших, а тем более пространство у взмывающего в невозможное профиля купола собора Брунеллески во Флоренции; позже - приключения "Морганте" и "Неистового Роланда", и божественная нагота "Венеры" Джорджоне, и свет улыбки Монны Лизы, и пыл любовных циклов Ронсара, и арка, сквозь которую - как бесконечность мысли - выходят к человечеству рядом Платон и Аристотель в "Афинской школе" Рафаэля.
Поистине нужным (for true need) обездоленному Лиру теперь (и это уже напоминает о том, что если не у Шекспира, то в календаре наступал XVII век) кажется то "сервантовское" терпение, с которым Лир, чтобы не потонуть в горечи, заставляет себя, царя духа, взывать к шуту, криком (не лишенным, правда, игры слов: fool - mad), что он, Лир, сходит с ума ("О, fool, I shall go mad!"). Вспомним еще раз о мудром Роланде Ариосто, тоже ставшем "фуриозо".
В "Короле Лире" высказана и та, иная диалектика необходимости, которая ранее, с начала созревания Ренессанса в других искусствах демонстрировалась в них иначе. У Мазолино - Мазаччо, формировавших Кватроченто в живописи, большое значение имеют сцены взмывающей вверх "варьирующейся необходимости", когда, например, калеке, просящему о милостыне, посылается неизмеримо больше: апостол протягивает ему не денежку, а дарует исцеление; или, когда у Мазаччо Христос, в той или иной степени символизирующий для художника образ гения, идеал, подчиняясь выплате дани (которой он не подлежит), видоизменяет необходимость, платя сборщику чудом. Какая близкая автору "Лира" и "Бури" избыточно-человеческая ренессансно-художественная мысль, что гений платит чудом! - тетрадрахмой изо рта первой же выловленной по его указанию рыбы.
По-иному архитектура неповторимых интерьеров Брунеллески платила в высоком смысле "необходимое" входящему, который хотел молиться или созерцать капеллу Пацци или Старую ризницу Сан Лоренцо во Флоренции. Архитектура избыточно "платила" успокаивающей и собирающей душевные силы человека запредельной простотой пропорций и декора.
Спустя почти два века после Мазаччо - Брунеллески в "Короле Лире" вновь обогащено содержание осваиваемой ренессансным человеком (не той, к которой нас приучали "гегельянцы") меняющейся необходимости.
Конечно, и Шекспир понимал уроки той обычной "необходимости", которая синонимична "принуждению", "нужде". В сцене II акта III, когда шут и неузнанный Кент ведут промокшего, коченеющего Лира в соломенный шалаш, король признается:
Я тоже зябну. Где же тут солома?
Как странно действует необходимость:
Пустая вещь [солома] - в цене...
The art of our necessities is strange,
And can make vile things (a hovel of straw) precious[8].
В ходе серьезнейшей игры "необходимостей" (в той же сцене) в словах самого Лира разъясняется истинное отношение беды и вины в его действиях - та ренессансная концепция беды и вины, которая открылась (после коллизий греко-римских мифологических трагедий) как новая моральная эра уже внутренним неприятием Данте небесного осуждения многих "грешников". Здесь и искуснейший переводчик М.А. Кузмин стянул в эллипсис неизмеримую глубину стихов: "Предо мной другие / Грешней, чем я пред ними" ("I am a man // More sinned against than sinning").
Литературе Средних веков не было свойственно такое утонченное понимание отношения между первородным грехом, виной личности, свободной волей и частичной детерминированностью человеческих действий общественными факторами и поведением других людей (такие тонкости улавливались лишь святоотеческой литературой, например, Василием Великим; см. его Беседу на Псалом седьмой [8, часть Т, с. 201-202]).
В германских эпосах, во французском эпосе, во франко-итальянских поэмах до Пульчи, в фаблио, в добоккаччиевых новеллах неточностей такого рода сколько угодно. Исторические хроники, шансон де жест, фаблио полны примеров мгновенного жестокого осуждения и сравнительно легкого оправдания. Человек был то таков, то таков: собственно характера еще, как правило, не умели изобразить и народные джесты каролингского цикла. Даже в высокохудожественных произведениях - в самой "Песне о Роланде" - это иногда проявляется: отношение Карла Великого к Ганолону (Гано); характеристика метаморфоз самого Роланда; позже у Пульчи - изменения отношений к Горному Старцу (Veglio della Montagna); быстрота преображения уверовавших в христианского Бога сарацин.
Диалектика человека и необходимости, изображение диалектики характера типологически меняется с Данте (цельные образы языческих философов и поэтов; Франческо да Римини; уважение к Фаринате); излучение гениальности поэта Гвидо Кавальканти в изображении его отца; знаменитые примеры с морeпроходцем Улиссом, за которым буквально в канун великих географических открытий пошел Ринальдо у Пульчи.
За пределами Италии сходный процесс цельной типизации начинается с "Кентерберийских рассказов" Чосера, с южно-нидерландских ("фламандско-бургундских") живописцев - с Флемальского мастера (Робера Кампена?), с братьев ван Эйк, не становясь, однако, например в Англии, нормой у послечосеровских поэтов, противоречиво воплощаясь в Нидерландах — у художников Рогира ван дер Вeйдена и особенно у Дирка Боутса.
Но так или иначе Боккаччо, Чосер, ван Эйк, ван дер Вeйден понимали героев своих романов, поэм, новелл, картин, жизнеописаний Данте, как more sinned, как людей, против которых больше согрешили, чем они сами грешат по отношению к заповедям.
Шекспир в виртуозном сопряжении понятий "человек - жертва грехов", "sinned" ("отрешенный"), противопоставляемый "грешнику" (в сопряжении с выворачивающим смысл церковной лексики перемещением слова "against"), точно выразил дух Ренессанса. Он еще раз в ничего не повторяющем "Короле Лире" повторил, подвел итог концепции, расцветшей в Кватроченто и живущей в портретах и бюстах людей, по большей части не только прекрасных, но и страшных, однако все-таки чаще "more sinned against than sinning".
Обратившись (в контексте вопросов, поставленных Кватро-Чинквечeнто) к произведению конца Возрождения, к "Королю Лиру", можно понять, сколь стойким и существенным было значение этой проблематики для всего развития и всей характеристики эпохи Возрождения.
Нужно сказать, что "Неистовый Роланд" Ариосто кончается весьма трагически: "Злом за добро". Шекспир попытался в последних словах Олбени завершить трагедию утешением: "Старейший претерпел; кто в цвете лет / Ни лет таких не будет знать, ни бед" - "We that are young/ Shall never see so much nor live so long" [V, 111]. Конец трагедии.
Зрители тоже не выносили мучительного конца.
В напечатанном в 1681 г. издании Нeйсама Тeйта трагедия имела счастливую развязку. Так она и ставилась с Гарриком в заглавной роли в 1741-1742 гг. Пятый акт был восстановлен на сцене только через 217 лет после первой постановки Эдмондом Кином в 1823 г. Байрон в подлинном виде уже не мог увидеть "Короля Лира" в театре.
Видят ли современные люди подлинного Лира, вдыхавшего последние глотки воздуха ариостовского Чинквеченто, расцвета культуры Высокого Возрождения?
29 апреля 1997 г.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.Ариосто Лудовико. Неистовый Роланд. (Пер. свободным стихом М.Л. Гаспарова). Изд. подгот. М.Л. Андреев, P.M. Горохова, Н.П. Подземская. Отв. ред. Р.И. Хлодовский. Т. I. Песни I-XXV, 574 с. Т. II. Песни XXVI-XLV1, 544 с. М.: Наука, 1993.
2. Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в 17 томах. М, 1937-1959.
3.Ariosto L. "Orlando furioso". V. I—II. Firenze: Le Monnier, 1854.
4. Shakespeare W. The complete Works in nine volumes. V. 111. Oxford University Press, s.a.
5. Балашов Н.И. Соотношение идеального и реального в художественных системах Ренессанса и XVII столетия как критерий разграничения этих систем // Изв. РАН. Серия литературы и языка. Т. 52. 1993. № 1.
6. Шекспир В. Полное собрание сочинений (под общей редакцией С.С. Динамова и А.А. Смирнова). М.; Л.: Academia - Гослитиздат, 1936-1949.
7. Шекспир В. Полное собрание сочинений в десяти томах. М.: Алконост - Лабиринт, 1994.
8. Василий Великий. Творения. Ч. I. Беседы на Псалмы. М., 1845 (репринт 1991 г.).
* чинквеченто ( итал. – пятьсот) XVI век в Италии – расцвет культуры Высокого Возрождения и начало распространения маньеризма (итал. – манера, стиль).
[1] Кстати, надо сказать, что мы всячески одобряем решение М.Л. Гаспарова сохранить в столь часто упоминаемых именах, как Роланд, традиционную склоняемую русскую форму. У героя множество имен на разных языках - от германского Hruotland ("слава родины"), латинизированного Hruotlandus, старофранцузского Роланд, современного французского Ролан, итальянского Орландо, испанского Рольдан, русского Роланд до болгарского Ролан и т.п.
Крайним авзономанам (Авзония - архаическое поэтическое наименование Италии) можно бы предложить освященное Пушкиным [2, т. 3. с. 15, 561] Орланд. Имя - удобное для стиха; оно склоняется, во всех косвенных падежах получает гласный в окончании и соответствует итальянской традиции то сохранения, то элидирования конечного гласного.
* кватроченто (итал. – четыреста) XV век в Италии – расцвет культуры Раннего Возрождения.
[2] В России опасно минорный лад "Пяти песен" убедительно охарактеризовал М.Л. Андреев [1, т. 1, с. 516-520]. Он удачно избрал цитату из II песни, свидетельствующую об их тоне: "О наша жизнь, исполненная муки...".
[3] Поскольку Пушкин не считал нужным придерживаться в своем переводе строфической формы подлинника, мы обозначаем приведенные строки 111 октавы буквами, а не порядковыми числами.
[4] Здесь и далее римскими цифрами обозначены действия и сцены "Короля Лира".
[5] Бустрофедоном по названию первоначального греческого письма, где одна строка писалась справа налево, а другая -слева направо и т.д., можно называть постоянное колебание ренессансного искусства между жизненно-реальным и идеальным. См. подробнее [5].
[6] To show - в смысле: показать кому-либо пример, быть первым. См.: The Concise Oxford Dictionary... 7 th edition. Oxford University Press, 1987, p. 978.
[7] Связь преодоления мрачного царства "необходимости" с понятием поэзии как необходимой роскоши была давно подмечена О.Э. Мандельштамом на примере итальянских поэтов, среди которых он имел в виду в первую очередь любимого им Ариосто. Р.И. Хлодовский удачно процитировал Мандельштама в самом начале своего предисловия к двухтомному изданию Ариосто: "В понимании Пушкина, которое он свободно унаследовал от великих итальянцев, - пишет Мандельштам, - поэзия есть роскошь, но роскошь насущно необходимая и подчас горькая, как хлеб" [1, т. I, с. 5].
[8] Б.Л. Пастернак тоже не применил множественного числа и оборота Лира "the art of our necessities", но оттенок смысла передал изящно: "Алхимия нужды преображает / Навес из веток в золотой шатер" [7, т. III, с. 495].
|
|
 |
|