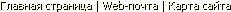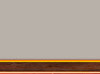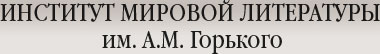|
|
 Научная жизнь
| Конференции
| 2008
| Кребийон-сын: проблемы творчества
Научная жизнь
| Конференции
| 2008
| Кребийон-сын: проблемы творчества
КРЕБИЙОН-СЫН: ПРОБЛЕМЫ ТВОРЧЕСТВА
5 февраля 2008 г. в ИМЛИ РАН состоялась однодневная научная конференция, посвященная творчеству известного французского писателя Клода Кребийона (1707-1777). Если прежде Кребийон воспринимался как писатель второго ряда и изучался сравнительно мало («писателю не посвящено ни одного обобщающего монографического исследования», сетовала Н.В. Забабурова на неисследованность наследия Кребийона в 1992 году), то к настоящему времени ситуация радикальным образом изменилась: чуть ли не каждый год появляется новая монография о творчестве писателя. К его юбилею во Франции было учреждено Общество Друзей Кребийона и состоялась (в декабре прошлого года) однодневная конференция, посвященная различным аспектам его наследия. Проходившая в ИМЛИ конференция, в которой приняли участие известные учёные Москвы, Санкт-Петербурга и Минска, ни в малой степени не дублировала парижскую (выступавшая на обеих конференциях профессор МГУ Н.Т. Пахсарьян представила в ИМЛИ совершенно новый доклад). Ниже публикуются резюме московских докладов.
К.А. ЧЕКАЛОВ
А.Д. Михайлов
Мнимый Кребийон в русском переводе
Клод-Проспер Жолио де Кребийон-сын (1707-1777) не был как следует известен в России на протяжении более двух столетий. Речь идет, конечно, о его русских переводах (первый появился только в 1974 году). Между тем, о нем в русских литературных кругах знали неплохо, но все-таки достаточно однобоко. Первое, что знали о нем, это то, что он был сыном знаменитого драматурга Кребийона-отца, который стремился быть третьим великим французским драматургом-трагиком, после Корнеля и Расина, и в этом настойчиво, но безуспешно соперничал с Вольтером. В XVIII веке его трагедии ещё не попали на русскую сцену, но о них говорили, о них писали газеты, и не приходится удивляться, что в начале следующего столетия стали появляться и переводы, и сценические интерпретации.
Итак, Кребийон-сын был отпрыском известнейшего "отца". Но о нем было известно и другое. Он слыл автором легкомысленных и не заслуживающих внимания и, тем более, похвалы — сочинений. В этом отношении весьма показательно мнение профессора Московского университета Иоганна-Готфрида Рейхеля (1727-1778), который так написал о произведениях Кребийона: "Сии романы невероятны, чрезвычайны, против благопристойности и нравоучения, хотя и увеселяют они бóльшую часть читателей, и находят своих любителей. Штиль в них принужденной и шуточной. А лучшее и смешное состоит часто в чрезвычайнешнем и необыкновенном. Романы <эти> не служат ни к хорошему вкусу, ни к исправлению нравов, а менее всего способны к наставлению разума". Это написано в 1762 году и напечатано в четырехтомном сборнике "Собрание лучших сочинений к распространению знания и к произведению удовольствия", напечатанном при Московском университете.
А годом раньше и все в той же типографии был напечатан роман, в двух небольших томах, под таким названием: "История о принце Солии, названном Пренанием, и о принцессе Фелее, сочиненная сыном господина Кребильона". Такого произведения у Кребийона-сына на самом деле нет, автором этого романа был третьестепенный французский литератор Анри Пажон, о котором достоверных сведений нет; известно лишь, что был он юристом, жил в Париже, где и умер в 1776 году. Свои книги он издавал анонимно и печатал их как в Париже, так и в других городах (Лейдене, Антверпене, Амстердаме и т.д.). Вышедший, анонимно, в Амстердаме в 1740 году роман Пажона был приписан неизвестным нам переводчиком Кребийону-сыну. Это ничего нам не говорит об оценке "Истории о принце Солии», но лишний раз обращает наше внимание на восприятие в России середины XVIII века произведений Кребийона.
Анри Пажон разрабатывает в своем романе привычные ситуации и топосы галантно-эротических сочинений с ориентальной составляющей. И хотя действие книги разворачивается в виртуальной Южной Америке, а не на условном "Востоке", восточные мотивы в ней весьма ощутимы. Это и персонажи, как бы явившиеся из некоего волшебного царства, обладающие колдовскими способностями, предметы, наделенные сверхестественными свойствами, например, кольцо, делающее его обладателя невидимым, или камешек, пососав который можно излечиться от любой болезни, и т.д. Как и полагается в волшебных сказках, волшебницы у Пажона непременно добрые, всячески помогающие героям, наряды — обязательно роскошные, кушания — самые изысканные, бури — сокрушительные, приключения — самые рискованные и т.д. Роман Пажона кое в чем созвучен роману Кребийона "Танзаи и Неадарне". Их роднит созданная атмосфера молодости и любви, противостоящих жизненным неурядицам, опасностям и невзгодам, роднят мотивы забавной, подчас откровенно искусственной феерии, волшебства, превращений, неожиданных поворотов судьбы. Думается, найдем мы перекличку между этими двумя романами и в описании путешествий как по бескрайним пустыням, так и по водным просторам. Есть у Пажона и тонкая ирония при комментировании действий героев, их душевных переживаний и их болтовни. Но нет у Пажона того балансирования на грани непристойного, хотя бы рискованного, что мы найдем в книге Кребийона.
Анри Пажон работал в русле той же традиции, что и Кребийон. Книгу Пажона поэтому легко было принять за какое-то сочинение автора "Софы", что и произошло при переводе "Истории о принце Солии" на русский язык. Кребийон слыл писателем "нехорошим", но вот этот роман совсем не был "опасен". Принадлежал он, якобы, литератору очень известному, хотя книг его никто еще почти не читал. Представляется, что вот эти два обстоятельства — скандальная известность Кребийона и "неопасность" романа Пажона и определили выбор неизвестного нам русского переводчика.
Н.Т. Пахсарьян (МГУ)
Специфика художественного пространства в романах Кребийона
Художественное пространство романа сегодня понимают как предельно широко («Художественное пространство – это свойственная произведению искусства глубинная связь его содержательных частей, придающая произведению особое внутреннее единство и способствующее превращению его в эстетическое явление»), так и более конкретно – «модель мира данного автора, выраженная на языке пространственных представлений» (Ю.М. Лотман), «специфическая форма пространственных отношений, свойственных создаваемой в произведениях художественной реальности». Думается, что именно конкретное понимание этого понятия может в данном случае служить эффективным ракурсом интерпретации текста.
Романное пространство изучается в последние десятилетия весьма активно, и роман XVIII играет в этих исследованиях заметную роль: достаточно вспомнить монографии Ж. Вайсгербера «L'espace romanesque» (1978), А. Лафона «Espaces romanesques du XVIII siècle. 1670-1820 » (1997), статьи А. Зимека «L'espace mondaine dans l'écriture romanesque du XVIII siècle» // Le siècle de Voltaire, hommage à R. Pomeau. Oxford, 1987 ; Р. Сэсслена «Room at the top of the Eighteenth Century: From sin to aesthetic pleasure» // The Journal of Aesthetics, vol. 36, 1968 и др. Не останавливаясь подробно на обзоре этих исследований, выделю основные идеи, которые в них содержатся. Это прежде всего полемика с представлением о «реалистичности» изображаемого мира в романах (одна из весомых публикаций, касающихся поэтики Кребийона-сына, не случайно называется «Songe, illusion, égarement dans les romans de Crébillon», 1998), указание на важность и силу риторической традиции в изображении пространства, на выделении топосов – уединения, соблазнения, связанных с интимным пространством салонов, будуаров, кабинетов, спален и т.п.
Кажется, что с такого рода выводами можно лишь согласиться. В самом деле, если мы обратимся к пространственным понятиям в кребийоновских романах (по крайней мере, ранних, 1730-х годов – «Танзаи и Неадарне», «Софа» и «Заблуждения сердца и ума»), мы обнаружим здесь следующие места действия: В «Танзаи» – покои Неадарне, карета, храм, ложе, зал королевского дворца, салон, оперная ложа – несколько так сказать природных топосов – луг, усеянный цветами, полутемная роща, ковер из трав и цветов и т.п.; в «Софе» – женская половина дворца Шах-Бахама, где происходит событие рассказывания, кабинет Фатимы, куда поместили софу с переселившейся в ее душой Аманзея (не случайно замечание – «софе не пристало стоять в прихожей») – и далее различные спальни, кабинеты тех дам, об истории которых рассказывает Аманзей; В «Заблуждениях» – гостиная мадам де Люрсе, в основном посещаемая де Мелькуром, и сад, в котором выделены укромные уголки, позволяющие уединиться для интимной, доверительной беседы и т.п. По верному наблюдению А. Лафона, «комната ли, сад ли – функция одинакова – изолировать, уединить». С одной стороны, отчетливо различные – и по жанровым определениям (японская сказка, моральная история, мемуары), и по заявленному географическому пространству – сказочно-экзотическому, ориентальному в первых двух произведениях, и знакомому, парижскому – в «Заблуждениях», эти романы, с другой стороны, рисуют нам один мир и один жизненный маршрут, определяемый словом «égarement», которое можно перевести и как «заблуждение», но и как попросту «блуждание»: перемещение героев не линейно, оно может быть описано с помощью глаголов «приближаться» и «удаляться» – по существу, единственных, которые указывают на положение персонажей в пространстве. Причем, взгляды персонажей (и автора!) всегда направлены горизонтально и никогда – вверх или вниз.
Вообще, это пространственное положение и перемещение персонажей в романах Кребийона дано очень скупо и абстрактно. Места действия лишь называются, но не изображаются. Даже в романе, где, казалось бы, следует ожидать пространственных подробностей – в «Софе», нет специфического «угла зрения» одушевленной софы (уточнения – «уселась» или «уселся на меня» – даны лишь дважды во всем тексте, но то, что описывает «софа» – не предполагает взгляда снизу, вообще, не предполагает некоей топографической конкретности поз или жестов). Становится очевидно, что такую абстрактность не объяснить только риторической традицией, коль скоро эта традиция была гораздо сильнее в литературе предшествующего, XVII столетия, однако пространственная риторика и риторика жестов подробно воссоздавалась в романе барокко.
Особенность барочной театральности, предполагающей зрелищность, буквальную зримость образа, некое переложение драматического действия в вербальное не характерно для «натурализованной» театральности рококо, заменяющей подчеркнуто театральную форму игрового житейской, так сказать, «детской» игрой, переходящей со сцены за кулисы, где, по словам Ж. Вайсгербера, «не вполне жизнь, но и не вполне театр».
Эпизоды романов Кребийона, по существу, не построены как мизансцены. Сравним, например, сцену свидания из «Астреи» д' Юрфе и из «Танзаи и Неадарне». В первом случае мы сталкиваемся с подробным, можно сказать, «сценарным» «расписыванием» топографии местности, положения героев по отношению друг к другу к пространству, их поз: «Астрея приближалась довольно медленно; можно было заметить, что душу ее что-то томило, понуждая настолько погрузиться в свои мысли, что – нечаянно, нет ли – пройдя совсем рядом, она и глаз не повела в сторону Пастуха и отправилась устраиваться довольно далеко на берегу. Селадон, не придав сему значения, полагая, что Пастушка не заметила его и пошла на обычное место их встреч, собрал посохом овец и погнал их к ней. Астрея уже уселась подле старого ствола, опершись на колено, подперев голову рукою, и была столь задумчива, что не будь Селадон чрезмерно слеп в своем несчастии, легко увидел бы он, что только перемена сердечной привязанности и никакое другое огорчение не могло быть причиной горестных и глубоких сих раздумий» – и т.д. Во втором случае имеет место расплывчато-неопределенное пространственное передвижение персонажей; фиксируются не позы, а прежде всего психологическое состояние, чувственно-эмоциональные переживания героев:
«Едва забрезжил рассвет того дня, который позволял Танзаю остаться наедине с принцессой, он, подгоняемый движениями сердца, поспешил под ее окна, где и ожидал прекрасного мига свидания.
Неадарне, взволнованная не меньше его, тоже пробудилась раньше обычного. Первые звуки, донесшиеся до ее слуха, оказались пением влюбленного принца, импровизировавшего на тему своей страсти. Она вскочила, но из боязни нарушить приличия, показавшись в окне, приказала, не желая упускать ни одной минуты из тех, что она могла бы употребить для беседы с принцем, устроить в своих покоях как можно больше шума. Танзаи справедливо счел, что она уже проснулась и отправился к ее дверям».
Подобная «топографическая абстрактность» существенно отличает романы Кребийона не только от барочного романа, но и от фривольно-эротической романистики его времени, где преобладает «порнографическая» наглядность и конкретность поз и жестов (ср. описание сцены «обучения градациям» в «Заблуждении сердца и ума» с любовными сценами «Терезы-философа»).
В романах Кребийона идет процесс если не разрушения, то значительной трансформации риторических топосов барокко, и эта трансформация осуществляется путем той натурализации и психологизации романического, которые являются общими для всех крупных создателей европейского романа рококо.
И.В. Лукьянец (Санкт-Петербургский государственный университет)
Единство и многообразие в романах Кребийона
Можно c уверенностью говорить о том, что в наше время интерес к творчеству Кребийона-сына продолжает расти, хотя сам характер его меняется: на смену пафосу своеобразного открытия писателя приходит множественность прочтений его творчества. Первый этап постижения творчества Клода Кребийона в XXXX веке связан с активной разработкой истории идей века Просвещения, представших впервые как явления чрезвычайно сложные и многозначные в трудах Ж. Эрара и Р. Мози; указанные исследователи включали в круг своих интересов и творчество Кребийона как одно из художественных проявлений мысли Просвещения. Подобного рода прямое сопоставление и сближение философии с литературой породило впоследствии естественное стремление к разграничению этих явлений, к бегству от линейности.
Имя Кребийона стало восприниматься в качестве некоего символа эпохи, понятой как совокупность множества факторов, рождающих «печать времени». Совершенно естественно, что формировался и такой взгляд на творчество Кребийона, в котором преобладал интерес к специфическому, к тому, что позволило бы видеть эпоху как бесконечное множество разнообразного, с другими системообразующими доминантами, кроме философско-идейных. В этом смысле плодотворной оказалась идея рококо как мировидения, предполагающего множественность.
Сегодня становится очевидным, что хотя два этих взгляда и не противоречат друг другу (как не противоречат принципы единства и многообразия), но каждый из них, взятый в отдельности, недостаточен для постижения эпохи Просвещения, когда в разных проявлениях даже общих идей доминирует многообразие (трактуемое в работах о стиле рококо как одна из главных примет рокайльного мировосприятия).
Одной из особенностей творчества Кребийона стал моножанровый характер его творчества. Он не пробовал свои силы в драматургии, поэзии, и журналистике, не говоря уж о жанре философского трактата, а был последовательным и неутомимым романистом. При этом писатель испробовал всевозможные модальности этого жанра: мемуарный роман («Заблуждения сердца и ума»); роман-сказка («Танзаи и Неадарнэ», «Ах, что за сказка», «Софа»); фиктивные эпистолярии («Письма маркизы», «Счастливые сироты» «Письма герцогини», «Афинские письма»); диалоги («Ночь и момент», «Случай у камина»). Кребийон осваивает каноны этих форм, часто разрушая старые с помощью пародий или других приемов. Многие из его произведений в свою очередь становятся образцами для подражания. (Вспомним, что замысел романа Шарля-Пино Дюкло «Исповедь графа» возник как подражание роману Кребийона «Заблуждения сердца и ума»).
Нарратологические возможности каждой из романных форм используются писателем так, что во всем их многообразии очевидно единство стратегии. Назовем признаки этого единства. Во-первых, это своеобразное обращение с интригой, ее затягивание и незавершенность. Незавершенность может быть очевидной, как, например, в «Заблуждениях сердца и ума», или неявной, когда она перестает играть сюжетообразующую роль, не «стягивает» действие как, например, в «Счастливых сиротах». Во-вторых, бросается в глаза очевидное повторение ситуаций и персонажей в романах Кребийона; не случайно почти во всех романах повторяется один и тот же набор – либертен-соблазнитель, дама-соблазнительница, женщина-жертва; юноша, вступающий в свет. Наконец, третьим «парадигматическим» признаком становится присутствие ярко выраженного игрового начала, описанного в литературе о Кребийоне в уже устойчивых терминах – прием «двойного регистра» («Заблуждения сердца и ума»), «дуэт для одного голоса» («Письма маркизы», виртуальное присутствие в ответах маркизы писем графа, текст которых не приводится), «вариации» («Софа», «Счастливые сироты» – рассказывание одной и той же истории разными лицами).
Мы предлагаем описать указанный игровой и эстетический принцип повествования в романах Кребийона, воспользовавшись понятийным аппаратом синергетических исследований и метафорически описать его при помощи термина «фрактальность» (от лат. fractus). Понятие «фрактальность» означает масштабную инвариантность явлений, когда в большом повторяется малое, а в малом – большое. В математике принцип фрактальности предусматривает редукцию строгих закономерностей и стремление к большей гибкости и признанию важности случайного фактора, выявлению «общей направленности» в «детерминированном хаосе» (см. работы Б. Мандельброда). Речь идет о том, что направленность структурирования хаоса детерминирует сходность рождаемых этим хаосом форм, структур; данный подход позволяет достигнуть любопытных результатов и в применении к литературным системам.
Художественное творчество Дидро, Руссо, Вольтера давно рассматривалось как инвариант философской мысли. Иначе дело обстоит тогда, когда речь идет не о философской прозе, а о прозе философа. Например, спорным кажется вопрос о своеобразной фрактальности художественной и философской мысли Б. Фонтенеля. Случай с Кребийоном особый. Внутри собственно романного корпуса его творчества (никаких философских трактатов Кребийон не писал) нетрудно выявить повторения, диктуемые постоянно присутствующим принципом единства и многообразия, чрезвычайно важным для художественной системы Кребийона. Обобщающее единство может устанавливаться за счет простой авторской констатации – например, когда Кребийон устами своего персонажа заявляет, что «происходящее с ними происходит у тысяч других каминов Парижа» («Случай у камина»). Другой пример: «мысленный эксперимент», когда романная ситуация с небольшими отклонениями повторяется множество раз, создавая своеобразные вариации одной и той же темы («Софа»). Перед нами вереница имитаций любви, усложненных вариативным поведением одних и тех же персонажей. Зулика, Нассэс, Мазульхим, – три персонажа – суть составляющие этого эксперимента. Они тасуются, словно карты в колоде, и каждое соединение личностных параметров (тщеславие, чувственность, жестокость) подтверждает общие законы человеческой природы. В то же время в каждом случае возникает и неповторимый казус, с его почти неуловимым отличительным своеобразием. Инвариантами действия фундаментальных законов (например, зависимости душевной жизни человека от его телесности) у Кребийона могут стать не сходные ситуации, а, напротив, антитезы: Мелькур – Версак (зрелый либертен // юноша), Леди Суффолк – Честер (мужчина // женщина). Многообразие и подвижность индивидуального и всеобщего в мире Кребийона становится, таким образом, его основополагающим художественным и повествовательным принципом.
.
Алташина В.Д. (РГПУ им. А.И.Герцена, Санкт-Петербург)
Диалог и диалогизм в романах Кребийона
1. Искусство светской беседы становится основным критерием savoir vivre во Франции ХVП-ХVШ вв. Когда Кант в конце ХVШ столетия пытается определить специфику французской нации, то первое слово, которое слетает с его пера – «разговор»1. Эту же черту французов подмечает Юм, считая, что именно они смогли довести до совершенства «самое востребованное и самое приятное искусство –искусство беседы»2.
2. Стиль жизни находит отражение и в литературе: жанры «беседы» (еntretiens), речи (discours), письмá или диалога привлекают не только светское общество, но и писателей, которые видят в этих формах большие возможности. Особенно чувствителен к новым веяниям оказался Кребийон, который в своем творчестве максимально использовал образчики светского этикета: у него есть и эпистолярные романы, и истории и сказки, и романы-диалоги (форма, ставшая чрезвычайно популярной в ХVШ в.).
3. Для того чтобы возник диалог, говорящие должны знать те системы знаков и правил, с помощью которых они могли бы кодировать и декодировать информацию. Код – это то, что их объединяет, и в речевом акте говорящий должен передать собеседнику «картину мира» так, чтобы слушающий мог ее распознать. В процессе речевой деятельности в определенном коллективе находят отражение многие исторически сформировавшиеся особенности данного общества. Для Бахтина диалогизм есть конкретно-психологическое воплощение «совокупности всех общественных отношений» в механизмах сознания. В романах-диалогах Кребийона «Ночь и момент, или Утра Цитеры» (1755) и «Случай у камина. Моральный диалог» (1763) отразились наиболее характерные идеи эпохи, с которыми автор вступает в полемическую дискуссию, в иронический диалог. Герои рассуждают о чувственности и чувствительности, стремятся избавиться от предрассудков, сравнивают тело человека с машиной, пытаются расширить свои знания путем опыта.
4. Собеседники принадлежат к светскому обществу и должны соблюдать его законы, неукоснительно следуя всему кодексу savoir-vivre libertin, который полно и ярко представлен в романах писателя: непринужденность поведения, будуар, полумрак, кресло или кровать, неспешность (вечер или ночь занимают все пространство романа); либертинаж по-мужски или по-женски (мы цитируем названия глав книги М.Делона « Le savoir-vivre libertin ». P., 2000). Персонажи Кребийона следуют своим естественным наклонностям, не нарушая при этом правил приличия, принятых в свете, которые требуют, чтобы молодой либертен шел от победы к победе и никогда не оставался не у дел.
5. Избрав диалогическую форму построения романов, автор как бы хочет устраниться; выведя на сцену своих героев, он на первый взгляд стремится к абсолютно объективному изображению. Однако, с одной стороны, автор распределяет дискурс между персонажами, а с другой, он иронически вторгается в ход повествования, обнажая его условность и разрушая внешнее стремление к правдоподобию.
6. Замечания рассказчика, который настойчиво и все более беззастенчиво вмешивается в диалог, проясняют ситуацию, проясняют игру жестов и взглядов; помогают разгадать тот код, который используют герои. Комментарии автора помогают раскрыть основную цель диалога – воздействовать на позицию и поведение партнера при помощи определенной коммуникативной стратегии – и подчеркивают косвенный смысл коммуникативного акта: герои говорят одно, а поступают совсем по-другому.
7. Повествователь в романах-диалогах – сочетание, на первый взгляд, абсурдное; между тем именно ему принадлежит главная роль, хотя он и не выполняет свою основную и наиболее традиционную функцию – «рассказывания» истории. Зато он выполняет остальные четыре (по классификации Ж.Женетта)3: во-первых, он является «постановщиком», производит отбор материала; во-вторых, творит коммуникативный акт, двумя участниками которого являются рассказчик и адресат повествования (обращения к читателю постоянно звучат на страницах романов); в-третьих, выражает свое отношение к происходящему, причем его вмешательство нередко играет дидактическую роль.
8. Диалогические отношения возникают только тогда, когда один персонаж воспринимает целостный образ другого в качестве желательного партнера взаимодействия. Диалог требует некоей внутренней общности партнеров, однако, отнюдь не отсутствия борьбы, скорее, наоборот – при полном согласии сторон диалог сходит на нет. У Кребийона каждый из собеседников ведет свою игру, причем правила игры по очереди задают мужчина и женщина: так, в романе «Ночь и момент» главная партия принадлежит Клитандру, в романе «Случай у камина» – Сели. Оба добиваются поставленной цели при помощи искусно выстроенного диалога, в ходе которого каждый стремится не только понять психологию своего собеседника, но и сделать так, чтобы тот открыл в себе чувства, о которых ранее не подозревал, и заставить его проявить эти чувства.
9. Говоря о диалогизме, М.М. Бахтин выделяет такие категории, как «я-для-себя» и «другой-для меня»4, которые можно дополнить соответственно категориями «другой-для-себя» и «я-для-другого». При этом «я-для-себя» совсем не совпадает с «я-для-другого»: это противопоставление видимости и сути в романах-диалогах становится очевидным благодаря авторским комментариям, которые вскрывают истинные чувства, акцентируют внимание на притворстве и умелой игре собеседников.
10. То же несовпадение «я-для-себя» и «я-для-другого» мы видим внутри развернутых историй Клитандра, который раскрывает свои мысли и тайные мотивы поступков. Он фиксирует нюансы голоса и жестов своих партнерш, скрытые пружины поведения которых он пытается понять. В этих рассказах оба персонажа раскрываются с двух сторон: Клитандр описывает как видимость, так и сущность; перед нами, так сказать, не два героя, но целых четыре – личность каждого распадается на реальную и имиджевую «персоны».
11. Повествование в романах-диалогах не является прерогативой рассказчика, но возникает и внутри самого диалога, участники которого рассказывают друг другу о своих любовных увлечениях и победах. Снова можно отметить четкое распределение ролей: если в романе «Ночь и момент» все рассказы принадлежат Клитандру – ему отведена главная роль, то в романе «Случай у камина» эту роль играет Сели.
12. Можно отметить целый ряд перекличек между двумя романами-диалогами в ситуациях, рассуждениях, персонажах. Есть в обоих романах отсылки и к самому известному творению автора – «Заблуждениям сердца и ума». Так возникает диалог между романами писателя, диалог между героями и ситуациями.
13. Диалог является не только способом построения романа, он используется на самых разных уровнях: это диалог (часто иронический) с характерными представлениями и идеями эпохи; диалог, отражающий определенную картину мира, для создания которой собеседники непременно должны пользоваться определенным кодом, свидетельствующим об их общности, однако само возникновение коммуникативного акта возможно лишь при наличии различий между ними. Диалогизм проявляется и в словах одного персонажа, который предлагает множественные трактовки, взвешивает разные мнения, колеблется в выборе точки зрения. Постоянный диалог с читателем ведет и сам автор, вмешательства которого составляют оригинальность и ценность произведений. Наконец, имеет место и диалог с чужим словом, будь то эпиграфы, скрытые или явные цитаты из других авторов (Ларошфуко, Расин, Овидий и др.), или же отсылки к собственным произведениям, что, несмотря на характерное для автора однообразие тематики, придает его творчеству многогранность и углубляет психологизм.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Цит. по: Dictionnaire européen des Lumières. P., 2007. P. 300.
2 Цит. по: Craveri B. L’âge de la conversation. P., 2002. P.349.
3 Genette G. Figures III. P., 1972. P. 261-265.
4 Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. C. 333, 335.
ЛИДЕРГОС Н.В. (МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)
АФОРИЗМ В СТРУКТУРЕ ПОЛИФОНИЧЕСКОГО ДИСКУРСА
(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНОВ КРЕБИЙОНА-СЫНА)
Постановка вопроса о полифонии и афоризме в структуре полифонического дискурса по отношению к роману XVIII в. может показаться неправомерной. Однако сам Бахтин указывал, что элементы полифонии существовали еще до Достоевского – в диалогической прозе Сократа и Лукиана, а также в карнавализованных жанрах, которые, сочетая «философский универсализм со злобой дня», обусловили впоследствии диалогическую сущность романа нового времени.
С другой стороны, афоризм, казалось бы, исключает противоположное высказывание, однако чаще лишь создает иллюзию универсальной истины и потому в силу своей парадоксальности обладает потенциальной диалогичностью. Можно предположить, что в романном контексте афоризм приобретает интенцию проблематизации общепринятых истин и участвует в создании полифонического дискурса.
В докладе это предположение рассматривается на материале романов Кребийона-сына, в которых за гедонизмом скрывается пафос свободомыслия, за внешней игрой и травестией, легкостью нравов – катастрофизм мироощущения, одновременно «веселый и мрачный маскарад»1. Игровое отношение писателя к миру демонстрирует отсутствие у него позиции моралиста-судьи человеческих пороков. Главная проблема всего творчества Кребийона – любовь – становится предметом гигантского полилога, в процессе которого выявляются разные мотивы поведения персонажей (например, в ситуации любовного обольщения в «Софе» или испытания любви вынужденной изменой в «Шумовке»), многозначность самого понятия «любовь», наконец, способность человеческого слова обосновать любое желание и поведение, то есть отсутствие авторитетной истины в сознании как автора, так и его героев. Скрытый диалог Кребийона в романах с философской прозой Монтеня, Паскаля, французских просветителей также можно рассматривать как зерно полифонии. Наконец, как явление полифонии можно рассматривать комментарии слушателей к повествуемым историям, где фигурируют различные точки зрения. В «Софе» Султан и Султанша не только обсуждают поведение персонажей повествуемого мира, мотивы их поступков, оценивают их моральный облик, но и пытаются изменить развитие сюжета по своему вкусу. Требование Султана, чтобы в повествовании не было никаких нравоучений, равнозначно отрицанию монологичной авторской точки зрения. Сам Кребийон от лица повествователя в сказке «Шумовка, или Танзай и Неадарне» иронизирует по поводу претензий автора на обладание авторитетной истиной: «В любой истории мы ценим разумные рассуждения <…> такие рассуждения хотя и удлиняют рассказ, свидетельствуют о мудрости автора»2. «Всеобъемлющая ирония автора» (формула А.Д. Михайлова) ставит под сомнение все провозглашаемые персонажами истины. Например, в «Софе» автор беспощадно иронизирует над попытками героинь сохранить репутацию добродетельных и честных женщин. Многие намеки Кребийона (например, язвительность по поводу половой слабости Мазульхима) воспринимались современниками очень остро, т.к., по мнению комментаторов, метили в конкретных высокопоставленных особ3. Можно увидеть в авторской иронии стремление зафиксировать диалектику бытия, в данном случае – усложнить систему точек зрения и повествовательную перспективу.
Итак, полифонический потенциал романного дискурса Кребийона очевиден. Какую же роль в этом полифоническом дискурсе выполняет афористика?
Как писал известный русский философ Г. Г. Шпет, «афористическая форма существенно связана с внутренней растерянностью скептической души»4. Шпет видел основания скептицизма в субъективности, в непродуктивной фиксации неразрешимого противоречия между истиной и многообразием эмпирических явлений. Для скептика попытки установить истину чреваты ошибками и неопределенностью, поскольку «он живет адиалектической статичностью самопротиворечия»5. Но это означает, что сознание скептика и афориста изначально полифонично: афорист ставит себя вне морали, в равной степени скептически и иронично относясь и к добру и к злу и признавая одновременно истинность даже противоположных суждений.
В романах Кребийона афоризмы постоянно присутствуют в диалогах героев, отражая борьбу разных точек зрения. Например, в «Софе» рассуждения Зулики и Нассеса о любви демонстрируют равную степень убедительности прямопротивоположных утверждений. Если героиня считает, что «чем более порядочна женщина, тем сильнее она сопротивляется»6, то ее собеседник, напротив, уверен, что «только кокеток трудно уломать. Их легко уверить в том, что они обворожительны, однако трудно растрогать; легче всего даются победы над разумными женщинами»7. Или: «Искренняя любовь всегда почтительна», – говорит Зулика и добавляет, что «необузданность возможна лишь по отношению к женщинам, к которым нельзя испытывать что-либо, кроме презрения»8, однако Нассес не согласен с ней: «почтительность неуместна, когда женщина действительно пробуждает желания»9. Эти и другие афоризмы противоречат друг другу, причем дело не в разных интересах и целях Мужчины и Женщины в диалоге, а в принципиальной невозможности свести различные мнения к одной истине. Кребийон не стремится определить свое отношение к спору, и это, как нам кажется, отражает не только и не столько его стремление приблизиться к пониманию сути вещей и понятий, то есть к познанию некоей авторитетной истины, сколько уход от всякого авторитетного мнения. Возможно, этим тоже объясняется театральность романов Кребийона, который предпочитал демонстрировать мир, но не высказывать свое мнение о нем.
В афоризмах Кребийона создается «”точка выбора”, в которой еще неизвестна окончательная истина и любой вариант представляется возможным, но при этом сами варианты имеют очень четкую форму и «снимают тревожную неопределенность»10. Благодаря наличию в афоризмах противоположных точек зрения становится возможным бесконечное развитие заложенного в них содержания. Кребийон, который на своем опыте столкнулся с парадоксальностью любовного чувства, не мог быть категоричным. Позволяя различным ценностям сосуществовать в противоречии, писатель проявляет себя человеком терпимым, но и – главное – скептиком, для которого авторитетные истины утратили свою силу.
Склонность афоризма шокировать парадоксом приводит к внешнему эффекту, за которым стоит «пуантирующее псевдообъяснение»12. Обескураженный парадоксами Кребийона читатель вовлекается в полилог, который ведут персонажи друг с другом и автор с миром. В результате становится очевидной двусмысленность истины и возникает своеобразный полифонический дискурс.
Проблема полифонического потенциала афоризма в романном дискурсе может быть рассмотрена и в другом аспекте. Если афоризм это парадокс, в котором одна часть противоречит другой, то афоризм внутри себя содержит потенциальный спор, а значит, афоризму свойственна внутренняя диалогичность. В данном случае проявляе диалогизм сознания (автора или персонажа), который опирается на разницу границ означаемого и означающего. В случае Кребийона речь идет о том, что размывание семантики слов, обозначающих понятия морально-нравственной сферы, приводит к диалогизации самих афористических высказываний, а значит – к потенциально бесконечному полилогу героев о них. Однако в романном дискурсе, в частности у Кребийона, где одно афористическое высказывание чаще всего сталкивается с другим или даже несколькими, эта потенциальная диалогичность становится очевидной и превращается в полифоническую структуру. Афоризм в составе романного полифонического дискурса полностью реализует свои свойства как парадокса. Представление афориста о мире, обнаруживает авторское понимание тех ценностных связей, которые существуют между явлениями и понятиями, то есть позиционируют самого автора. Тем не менее, Кребийону удалось выразить не только свой скептический взгляд на мир, но, дистанцировавшись от героев, дать им возможность озвучить свои позиции, причем в ситуации постоянного спора. Это значит, что писатель смог реализовать основной принцип полифонии как «нового типа художественного мышления».
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Михайлов А.Д. Два романа Кребийона-сына – ориентальные забавы рококо, или раздумия о природе любви// Кребийон-сын. Шумовка, или Танзай и Неадарне. Софа. М.: Наука, 2006. C.312.
2 Кребийон-сын. Шумовка, или Танзай и Неадарне. Софа. М.: Наука, 2006. C.106.
3 Михайлов А.Д. Примечания // Кребийон-сын. Шумовка, или Танзай и Неадарне. Софа. М. 2006. С.359.
4 Шпет Г.Г. Philosophia Natalis. Избр. психолого-педагогич. труды. М., 2006. C.416.
5 Там же, с.397.
6 Кребийон-сын. Цит.соч., с.254.
7 Там же, с.254.
8 Там же, с.256.
9 Там же, с.256.
10 Улыбина Е.В. Обыденное сознание: структура и функции. Ставрополь, 1998. С.82.
11 Курганов Е. Анекдот как жанр. СПб.: Академический проект, 1997. С.49.
Екатерина Дмитриева (ИМЛИ РАН)
Кодекс поведения «honnête homme» или кодекс либертена?
(роман Кребийона-сына «Заблуждения сердца и ума»)
В заглавие доклада вынесены две культурно-антропологические составляющие французского общества XVII-XVIII веков, которые в равной степени плохо поддаются более или менее четкому определению. Как по поводу понятий «honnête homme» (дословно – порядочный человек), так и по поводу существа либертинажа XVIII века традиционно шли споры – и в былые времена, и в наши. С другой стороны, неясен и онтологический статус самого романа Кребийона, – писателя, который с одной стороны пользуется репутацией теоретика и пропагандиста либертинажа, а с другой – романиста-психолога, чье творчество в целом направлено на разоблачение обманчивого характера страсти (1).
Считается, что законы honnêteté, ее формы и модели сформировались с приходом к власти Людовика XIII, когда «хороший тон» и нравы снова завоевали свой престиж при дворе. В литературе XVII в. прокламируется главенство морали: писатели берут на себя функцию воспитания «порядочного человека», уча его познавать собственную природу (2).
«Порядочный человек» находит удовольствие в социальной жизни. В ней он практикует «искусство нравиться», которое требует от каждого принесение в жертву своей особости. А так как основная сфера его деятельности – общество, основным элементом которого является беседа, то и так называемый savoir-vivre «порядочного человека» заключается в искусстве познавательной, стимулирующей беседы, предполагающей «совершенство души и ума» (3). Считалось, что человек высокого происхождения, который, по определению, призван быть «порядочным», должен обладать качествами хорошего психолога и хорошего философа, – дабы уметь управлять собой.
Поначалу «honnête homme» воспринимается как синоним «homme de bien» (4). Честность, незаинтересованность, великодушие, откровенность – вот что составляло основы «порядочности». Но позже к этим характеристикам добавились еще и легкость и блеск ума. «Порядочный человек» должен интересоваться всем, что относится к интеллектуальной сфере, не впадая при этом в педантизм. Отсюда вытекала и некоторая небрежность в разговоре – производная от требования: ничего не преувеличивать. Совершенство было понято как производное от меры (5).
Казалось бы, не было ничего более противоположного «идеалу нравственной и социальной жизни», выработанному кодексом «порядочности», нежели идеал либертинажа. Уже начиная с 1680 года, словари фиксируют слово в значении «esprit fort». Этимологическое значение «освободившийся раб» (от латинского «libertinus») сохраняется на протяжении всего 18 в. – либертен как человек, презирающий социальные условности (6). К концу XVIII века преобладать будет иное значение: «безбожник, развратник».
В остальном же либертинаж выступает как искусство жить, любить, и писать (7). Но при этом – и для нашей темы это в особенности важно – либертен постоянно оказывается между запретом и его преодолением, реальностью и воображаемым. Он сопротивляется господствующему закону и может, в зависимости от места и времени, быть обольстителем или эрудитом, философом или светским человеком. Светская сдержанность сочетается в нем с едва ли не порнографической откровенностью в повествовании о жизни плоти. Отсюда – сочетание эзотеричности и экзотеричности, свободы говорить и любить – и ограничений общества.
Как в свете всего сказанного может быть истолкован роман Кребийона «Заблуждения сердца и ума»? Ведь если вдуматься, то в «хартии либертинажа», как порой называли и воспринимали эту книгу, мы находим многое, что восходит не столько к кодексу либертинажа, сколько к кодексу «порядочности», но своеобразно трансформированному – в соответствии с новой эпохой. Уже в самом названии содержится имплицитная отсылка к ней («сердце и ум»). Герои заняты определением «хорошего тона» (одного из синонимов «порядочности»): «В ожидании, пока ему дадут лучшее определение, я считаю, что хороший тон – не что иное, как благородное происхождение» (8). Сама наука любви постигается как размышление, философствование, умение войти в психологию другого – чтобы уметь властвовать над своими чувствами. «Вы не представляете себе, каким тонким умом нужно обладать, чтобы сохранять успех на поприще, где у тебя куча соперников…» – объясняет Версак (9).
Наконец, все, что происходит в романе, происходит именно в беседе, а это также соответствует кодексу honnêteté. Следует подчеркнуть, что не только действие романа облекается в форму беседы, но еще и разрабатывается ее своего рода семиотика: разговор важно не только вести, но важно еще уметь его прочитать: «Сердце мое молчит и я боюсь нарушить его молчание…. И тем не менее… Нет, я не скажу больше ни слова; я запрещаю вам угадывать тайное…», – говорит Люрсе неопытному Мелькуру, одновременно вуалируя свои чувства и подсказывая, как возможно их расшифровать (10).
И все же роман Кребийона – это роман либертинажа и роман о либертинаже. Хотя и с этим все обстоит не так просто. Ибо при внимательном чтении мы видим, что иной тип социального поведения, противоположный либертинажу, олицетворяют в романе не только «ходульная» фигура добродетельной юной Гортензии, не только маркиза де Мелькур, пытающаяся оградить сына от возможного влияния Версака, но и сами фигуры либертенов. Так, в фигуре прошедшего через опыт либертинажа Мелькура, рассказывающего о том, как 17-летний Мелькур открывал для себя «романическую» любовь, уже намечены два возможных пути и две модели поведения. Но и Версак, который в романе являет собой «тип» философа-либертена par excellence, соединяет в себе внешние приметы либертена (острый ум, обольстительную внешность, репутацию человека порочного, который в своих бесчисленных победах ищет лишь компенсацию невозможности получить истинное удовольствие) с хорошо вуалируемым презрением ко всем этим свойствам. Таким образом, то, что получило название либертинажа, означает (во всяком случае, у Кребийона) своего рода «поведение с двойным дном»: «порядочное» принятие правил общежития – и вольнодумное внутреннее презрение к ним («Я понимаю, что наука эта является сводом мелочных правил и что многие из них оскорбляют и разум и честь; мы можем презирать эту светскую мудрость, но ее надо изучать и следовать ее правилам неукоснительнее, чем законам, более возвышенным» (11).
Точно так же и госпожа де Сенанж, образец женского либертинажа в романе, своим поведением показывает, как доведенный до логического предела кодекс благородной простоты, предполагающий отсутствие педантизма, оборачивается в либертинаже своей противоположностью (ср.: «Она употребляла модные при дворе словечки, странные, непринужденные, новые для слуха выражения, произносила их небрежно, тягуче, как-то сквозь зубы, - многие видят в этой заученно-ленивой манере простоту и естественность. Мне же эта манера представляется лишь новым способом докучать» (12).
Сама беседа, что выступала неотъемлемым компонентом кодекса «honnêteté», будучи взята на вооружение либертинажем, также предстает в двойном свете. С одной стороны, беседа (образцы которой в романе не приводятся) резко критикуется самими же героями–либертенами («Светская беседа складывается по большей части из невежества, манерничанья и старания быть эффектным…» (13).
С другой стороны, сам роман, собственно, и состоит из сколков бесед, предстающих как «ироническое переосмысление того, что традиция описывает как войну полов» (14). «Заблуждения сердца и ума» выстроены как изложение и угадывание «задних мыслей» и чувств героев. Рассказ развивается по мере анализа и рассуждений персонажей. Но поскольку и анализ, и рассуждения неотделимы от намерения, которое руководит героями, то психология здесь отказывает производным от поиска для нее соответствующего способа выражения. Читателя словно отговаривают от веры в объективность: полнейшая откровенность Версака становится нравственным иезуитством и открывает пути к цинизму как тайной науке о человеке. Таким образом, по мере того, как все более ухищренными становятся чувства и желания, становится очевидно, что вместе с вопросом о психологической правде ставится и вопрос о правде языка. Сомневаться в искренности чувства означает также вопрошать себя, существует ли для него адекватное и аутентичное выражение вообще.
В равной степени и требование «honnête homme» подчиняться правилам общежития превращается в интерпретации Версака (но также и Кребийона, описывающего Версака) в «вуалирование» собственной самобытности, что, в свою очередь, есть условие проникновения в характер другого и управления другим: («К умению обманывать людей следует еще прибавить способность проникать в характеры других, вы должны постоянно стараться разглядеть за тем, что вам хотят показать, то, что есть на самом деле...» (15). А скромность как оборотная сторона гордыни (вариант – достоинства) «порядочного человека», не позволяющая чересчур злоупотреблять блеском ума, –превращается в рассеяние. Последнее есть не что иное, как симуляция, род интеллектуального лицемерия либертена, позволяющее ему завоевать мир.
ПРИМЕЧАНИЯ
1) Dagen J. Introduction // Crébillon Fils. Les égarements du coeur et de l`esprit. Paris : Flammarion, 1985. P. 55-58. См. также: Михайлов А.Д. Роман Кребийона-сына и литературные проблемы рококо // Кребийон-сын. Заблуждения сердца и ума. М., 1974; Алташина В.Д. Взгляд и слово в романе Кребийона-сына «Заблуждения сердца и ума» //ХVШ век: Искусство жить и жизнь искусства. М., 2004.
2) См.: Magendie M. La politesse mondaine et les théories de l`honnêteté en France, au XVII siècle, de 1600 à 1660. Paris : Alcan, 1926. T.1-2 ; Baustert R. L`honnêteté en France et à l`étranger : étude comparative de quelques aspects // Horizons européens de la littérature française. Tübingen, 1988. P. 257-265.
3) Mlle de Scudéry. La morale du Monde ou Conversations. 1680-1692. T.1-10.
4) См. на эту тему: Dens J.P L`honnête homme et la critique du goût. Lexington, 1981.
5) Все выше перечисленные свойства были описаны в трактатах, составивших на разных этапах антологию поведения «благородного человека». См.: Faret. L`Honnête homme ou l`art de plaire à la cour. 1630 ; Chevalier de Méré. Conversations. 1668 ; Chavalier de Méré. Discours. 1677. T.1-3.
6) Cм.: Abramovici J.-C. Libertinage // Dictionnaire européen des Lumières./ Sous la direction de Michel Delon. Paris : Presses Universitaires de France, 1997. P. 647-651; Dubost J.-P. Eros und Vernunft : Literatur und Libertinage. Francfort/a/Main,1988.
7) Delon M. Le savoir-vivre libertin. Paris : Hachette, 2000. P.9.
8) Кребийон-сын. Заблуждения сердца и ума. М., 1974. С.146.
9) Там же. С. 141.
10)Там же. С. 36.
11)Там же. С. 137.
12)Там же. С. 78.
13)Там же. С. 86.
14)Dagen Jean. Introduction. Op. cit. P.10-11.
15) Кребийон-сын. Указ. соч. С. 140.
Е.П.Зыкова (ИМЛИ РАН)
Кребийон-сын и Англия
Тема «Кребийон и Англия» включает в себя несколько аспектов. Прежде всего биографический (личные связи Кребийона с Англией и английскими писателями); далее, аспект литературного взаимодействия (в частности, вопрос о заимствовании Кребийоном сюжета одного из его последних романов «Счастливые сироты» у английской писательницы Элизы Хейвуд). Наконец, возможен и третий аспект этой темы: аспект типологических параллелей и сближений, связанный с проблемой присутствия элементов стиля рококо – одним из самых ярких представителей которого и был Кребийон – в английской литературе.
Что касается фактографического материала, то он был подробно исследован в статье Дугласа Дэя «Кребийон-сын, его ссылки и его связи с Англией» (1). По мнению исследователя, мы не располагаем никакими убедительными свидетельствами пребывания Кребийона в Англии. Автор «Заблуждений сердца и ума» был знаком лишь с теми англичанами, которые приезжали во Францию, и переписывался с ними по-французски. Кребийон познакомился с лордом Честерфилдом в октябре 1741 г. в салоне мадам де Тансен. В этот период его роман «Софа» циркулировал по Парижу в рукописи, и Честерфилд, с его влиянием, помогал Кребийону уладить отношения с властями после публикации «фривольного» романа. Честерфилд также распространял присланные ему экземпляры через известный клуб Уайта на Сент-Джеймс-стрит. Перечисленные факты отражены в переписке Кребийона с Честерфилдом (2). В одном из писем Честерфилда к сыну, где речь идет о манерах молодого человека, упоминаются герои «Заблуждений сердца и ума». «А что, – пишет Честерфилд, – не стала ли госпожа *** твоей госпожой де Люрсе, заводит ли она иногда любовные интрижки? Может статься, ты сделался ее Мелькуром? Говорят, она мила, умна, обходительна; есть чему поучиться у той, которая сумела всему этому научиться сама» (3). Честерфилд, как видно, был бы не против, если бы его сын последовал примеру героя Кребийона и завел интрижку со светской дамой сильно старше себя, чтобы приобрести светский лоск.
Положительные отзывы о Кребийоне оставили также Хорас Уолпол, Томас Грей, Генри Филдинг, Дэвид Гаррик и Лоренс Стерн. Энтузиазм Уолпола по отношению к Кребийону был столь велик, что на его корреспондентку мадам Дефан подобный феномен произвел впечатление «глупости» или «причуды» (4). Уолпол решил приобрести портрет Кребийона и заказал его художнику Лиотару, но когда портрет был готов, Кребийон потребовал копию для себя и 16 гиней за позирование. Уолпол рассердился, Кребийон оставил портрет у себя; впоследствии картина куда-то пропала (5).
Кребийон был женат на англичанке Марии-Генриэтте Стаффорд, и этот эпизод его биографии также оброс легендами (6). Некоторые авторы XVIII и XIX веков красочно повествовали о том, как красавица-англичанка, прочитав «Заблуждения ума и сердца», явилась в Париж, чтобы предложить автору романа свою руку, сердце и состояние (7). На самом деле, Мария-Генриэтта происходила из семьи якобитов, сторонников потерявшего трон вследствие «славной революции» 1688 г. короля Якова II; они жили в эмиграции во Франции, где и родилась Мария-Генриэтта. Двор Якова II располагался в Сен-Жермен-ан-Лэ, где семьи Стаффордов-Говардов и Стриклендов, наследницей которых была Мария-Генриэтта, играли видную роль и занимали богатые апартаменты. Сама Мария-Генриэтта более десяти лет (1730-1743) провела в Англии.
Друг Кребийона Колле утверждал, что Мария-Генриэтта была «косоглазой и шокирующе некрасивой, а в остальном добрейшее существо, очень нежное, очень воспитанное и не лишенное ума». Она считалась наследницей, но имела именно формальные права на наследство, реально же получить его супруги Кребийон так и не смогли и испытывали постоянные денежные затруднения. В 1746 году у них родился ребенок, но крестины состоялись только три года спустя, в 1749 году, когда родители официально поженились, а в январе следующего года ребенок умер.
В 1750 году денежные обстоятельства заставили Кребийона и его жену покинуть Париж. Гримм в своей «Литературной переписке» сообщал: «Так как они оба исключительно бедны, об их браке говорят, что голод женился на жажде и что это продолжение заблуждений сердца и ума Кребийона». Они прожили некоторое время в Сансе, где была небольшая община якобитов, а затем перебрались в Сен-Жермен-ан-Лэ, где получили возможность жить в апартаментах Старого Дворца благодаря связям Генриэтты. Там Кребийон провел три года, и именно там он работал над своим романом «Счастливые сироты».
Этот роман, созданный в 1754 году, является, как показала Хелен Сард Хьюгс еще в 1919 г. (8), адаптацией романа Элизы Хейвуд «The Fortunate Foundlings» (1744). Элиза Хейвуд была одной из первых женщин-писательниц, которые пытались жить литературным трудом. Она сама занималась переводами с французского, и некоторые ее романы были известны во Франции. Кребийон не скрывал своего заимствования, а скорее наоборот, подчеркивал его: роман имел подзаголовок «Histoire imitée de l’Anglois». Автор статьи об этой адаптации Бернадетт Фор обратила внимание на популярность темы сироты, подкидыша в английской и французской литературе 1750-х годов, начиная с «Тома Джонса, найденыша» (1750) Филдинга, и «Истории Шарлотты Саммерс» его сестры Сары Филдинг, до трагедии Вольтера «Китайский сирота» (1755) и произведений менее известных авторов. Обращение Кребийона к этой теме исследовательница объяснила тем, что общий интерес к английской литературе был в это время весьма высок, а после выхода в свет «Софы» Кребийону требовался благопристойный сюжет, чтобы реабилитировать свою репутацию (9).
Так как Кребийон, скорее всего, не знал английского, исследователи полагают, что роман был переведен его женой Марией-Генриэттой. Существовало даже мнение, что она-то и являлась настоящим автором «Счастливых сирот», который Кребийон только слегка отредактировал, (роман считается более слабым, чем другие произведения писателя). Однако Бернадетт Фор, проанализировав характер изменений, увеличивших объем романа вдвое, показала, что романист, не отступая от сюжета, меняет и усложняет взаимоотношения между двумя главными героями, сиротами Горацио и Луизой, вносит в роман тонкий анализ любовных чувств и психологических переживаний, типичный для манеры письма самого Кребийона. Если роман Элизы Хейвуд можно охарактеризовать как роман любовно-приключенческий, Кребийон превращает его в любовно-психологический. Он упрощает действие и убирает некоторые второстепенные действующие лица, зато значительно обстоятельнее выписывает историю душевных взаимоотношений своих героев. Вместе с тем, и сам Кребийон испытал некоторое влияние английского романа Хейвуд и через него всей английской романной традиции, что сказалось в том, что в этом романе бытовой и событийной части уделено несколько более места, чем обычно в романах Кребийона.
Богатый материал для исследования представляет тема Кребийон и Стерн. Эти два автора были знакомы и, видимо, испытывали симпатию друг к другу. Кроме того, произведения Кребийона (главным образом «Заблуждения сердца и ума») оказали известное влияние на Стерна. Наконец, сопоставление их творческих принципов позволяет уловить в сентиментализме Стерна ощутимую близость к стилю рококо и Кребийону, особенно в трактовке человеческой природы и ее слабостей.
Стерн познакомился с Кребийоном в 1762 г. в Париже. Кребийон ввел Стерна, как до него Дэвида Гаррика, во французское общество. 19 апреля 1762 г. Стерн пишет из Парижа Гаррику: «Кребийон заключил со мной соглашение, которое, если он не будет слишком ленив, окажется хорошим persiflage. Как только я приеду в Тулузу, он напишет мне увещевательное письмо о неприличиях Тристрама Шенди – на которое я отвечу обвинениями в вольностях, допущенных в его собственных романах, – их опубликуют вместе – Кребийон против Стерна, Стерн против Кребийона – деньги от продажи поделим пополам. – Вот верная швейцарская политика» (10). Проект этот так и не осуществился, но само его возникновение говорит о том, что оба писателя ощущали известное родство, схожесть претензий, предъявляемых публикой к их сочинениям; оба отвергали эти претензии и были готовы морочить публике голову взаимными осуждениями, подогревая интерес к своим романам при помощи легкого скандала.
Стерн высоко ценил роман «Заблуждения сердца и ума». В переписке он несколько раз пользуется этим названием, причем пишет его по-французски и без кавычек, говоря о собственных слабостях и заблуждениях (11). Стерн замечал: «Прежде чем начать писать, я читаю Рабле и Кребийона». В «Сентиментальном путешествии» с Кребийоном связан эпизод у книгопродавца в Париже, где автор-герой, пастор Йорик слышит, как молодая горничная спрашивает «Заблуждения сердца и ума». Герой провожает горничную, а когда на следующий день та приходит к нему с поручением, между ними неожиданно разыгрывается любовная сцена. Стерн пренебрегает сложностями любовных переживаний, которые столь интересны для Кребийона; для английского писателя важнее описать происшедшее как естественный, спонтанный порыв, которому человеческое существо не способно сопротивляться. Но изображение слабостей человеческой природы сближает Стерна и Кребийона, а «Заблуждения сердца и ума» служат отправной точкой краткой любовной интриги, источником, вдохновившим этот эпизод «Сентиментального путешествия».
Примечания
1. Day D. A. Crébillon fils, ses exils et ses rapports avec l’Angleterre. // Littérature comparée, 1959, pp. 180-191.
2. Письма Кребийона Честерфилду от 23 февраля 1742 г., от 26 июля 1742 г. (Chesterfield. The Letters and Works of the Earl of Chesterfield. London, 1845-1853. Vol. V, p. 412, 415).
3. Честерфилд. Письма к сыну. М., «Наука», 1978, с. 185.
4. Walpole H. The Correspondence. Ed. Yale, London, 1939, vol. VII, p. 423.
5. Письма Манну от 27 июля 1752 г. и 4 марта 1753 г. (Walpole H. Op. cit., vol. II, p. 294-5, 324).
6. Feinsilber A., Corp, E. Crébillon fils et Marie-Henriette Stafford, histoire anglaise. Avec une lettre inedite// Revue d’Histoire Littéraire de la France, 1996, № 1, p. 21-44.
7. Houssaye A. “Jean qui pleure et Jean qui rit, Crébillon le gai” // “L’Artiste”, 19 décembre 1847, p. 97.
8. Hughes H.S. Notes on Eighteenth Century Fictional Translations // Modern Philology (Chicago), vol. XVII, № 4, aug. 1919, p. 49-55.
9. Fort, Bernadette. “Les heureux orphelins” de Crébillon: de l’adaptation à la création romanesque // Revue d’Histoire Littéraire de la France, 1980, № 4, p. 554-573.
10. Письмо Гаррику 10 апреля 1762 г. (Letters of Laurence Sterne. Ed. Lewis Perry Curtis. Oxford, 1935, p. 162).
11. Sterne L. Letters, op. cit., pp. 88, 162, 163, 245.
К.А. ЧЕКАЛОВ (ИМЛИ РАН)
ИГРА В АНТИЧНОСТЬ: «ГАЛАНТНЫЕ ПИСЬМА АРИСТЕНЕТА» ЛЕСАЖА И «АФИНСКИЕ ПИСЬМА» КРЕБИЙОНА
Последний роман Кребийона создавался, по Жану Сгару, параллельно с «Письмами герцогини…», так как в письме от 27 апреля 1767 года писатель указывает: «Я окончил письма добродетельной моей герцогини и снова примусь за письма Алкивиада». Вышел роман в 1771 году; на титульном листе стояли имена объединенных издателей – Пьер Эльми (Лондон) и Делален (Париж).
Первоначальное название романа – «Алкивиад», окончательное – «Афинские письма, извлечённые из сумы Алкивиада» («Lettres athéniennes, extraites du porte-feuille d'Alcibiade»). В итоговом варианте названия Кребийон вполне определенно подключил свое произведение к фиктивным эпистоляриям, которых во Франции XVII-XVIII веков было создано чрезвычайно много (разумеется, соответствующий ряд восходит к «Португальским письмам» Гийерага, 1669). Лишь после «Новой Элоизы», в 1761-1782 годах, во Франции вышло около 300 эпистолярных романов. Однако для Кребийона тут важна линия, которую Л. Версини назвал «экзотическим эпистолярным романом». В этом ряду высится монумент «Персидских писем» (1721), но были ещё и «Еврейские» и «Китайские письма» Д'Аржана (соответственно 1736 и 1739), «Письма перуанки» г-жи де Графиньи (1747), «Сиамские письма» (1751) Жозефа Ландона, «Ирокезские» Мобера де Гуве (1752); «Африканские письма» Бутиньи, вышедшие одновременно с «Афинскими». Еще более примечательно, что в том же 1771 году вышла книга «Литературное путешествие в Грецию» марсельского купца, путешественника и литератора Пьера-Огюстена Гюи, также построенная в эпистолярной форме. Но самое важное событие с точки зрения формирования неоклассического вкуса было ещё впереди. А именно, публикация книги аббата Бартелеми «Путешествие молодого Анахарсиса в Грецию» (1788), возымевшей колоссальный успех во всей Европе.
Почему никогда прежде не обращавшийся к античности Кребийон в последнем своём сочинении взялся за эпоху Перикла? Тут возможны разные объяснения. Античность – время моралистов, а именно этой проблематике уделено немало внимания в сочинениях Кребийона. Античность – это Сократ (он является одним из фиктивных авторов «Античных писем»), жизнеописание которого вышло во Франции 1751 году (в переводе с английского), но, по словам Гримма, не возымело никакого успеха. Кроме того, Дидро перевел еще ранее, в 1749 году «Апологию Сократа» Платона – и именовал сам себя Сократом; наконец, Сократ стал персонажем пьесы Вольтера.
Рискнем предположить, что сам «литературный фон», словесность второго и даже третьего ряда могли побудить Кребийона обратиться к Алкивиаду и его поре. В 1767 году было опубликовано «Письмо Овидия Юлии, написанное им из ссылки», сочинение некоего «драгунского капитана» (как его ехидно аттестует Гримм) Масона де Пезэ. На самом деле маркиз де Пезе, мушкетёр и переводчик Катулла и Тибулла, дослужился до полковника и в 36 лет умер. Еще ранее, в 1764 году, де Пезе совместно с гораздо более известным поэтом, основателем «Дамского журнала» Клодом-Жозефом Дора опубликовали непритязательные стишки под названием «Письмо Алкивиада Гликерии, афинской цветочнице» («Lettre d'Alcibiade à Glicère, bouquetière d'Athènes…»). Вполне возможно, что именно эта бесхитростная рокайльная безделушка была одним из импульсов к написанию книги Кребийона. Вот только одна цитата из нее:
De beaux oeuillets par toi-meme cueillis
Formoient chez toi mon dais et ma couronne,
Nous n’avions pas de superbes habits,
Le gout faisait notre magnificence,
Mais nous avions, Glycere, en recompense
De bien beaux jours et de plus belles nuits.
<Собранные тобою прелестные гвоздики стали мне в покоях твоих и венцом и балдахином; не было на нас роскошных одежд, если чем-то мы и блистали, так это вкусом; но зато наградой стали нам, Гликерия, прекраснейшие дни и чудеснейшие ночи>
В 1754 году была опубликована (посмертно) книга «Философия примененная ко всем объектам ума» аббата Террассона, участника спора о древних и новых, прямого последователя Перро; в «Критическом рассуждении об Илиаде» (1714) Террассон резко критиковал античность как эпоху варварства. Книга «Философия применительно ко всем объектам ума» была встречена чрезвычайно благожелательно Гриммом как высшее достижение «новых». Возникает вопрос: какую позицию занимал Кребийон по поводу «спора древних и новых» – например, по отношению ко второй его фазе, «спору о Гомере» второго десятилетия XVIII века? Прямых высказываний на этот счет у Кребийона нет, хотя по всем статьям он, конечно, принадлежал к «новым» – как и его оппонент Мариво. Но если обратиться к тексту «Афинских писем», то мы видим, что проблема исторического развития морали в устах Алкивиада намеренно отметается: «Следует ли отдавать предпочтение нравам былых времен по сравнению с современными или не следует – словопрения на эту тему я считаю здесь неуместными, а следственно, предпочел бы не приступать к ним». Таким образом, Кребийон принципиально уклоняется от продолжения «спора древних и новых».
Античность – это и эпоха высокой эпистолярной культуры. Насколько её хорошо знал Кребийон? Если госпоже де Севинье были известны Цицерон, Сенека и Плиний Младший и она как бы синтезировала в своем эпистолярии эти различные стили античного письма, то было бы явной натяжкой утверждать, что Кребийон следует правилам античной эпистолографии (хотя, например, сравнения его с греческим поэтом III века Алкифроном возможны; в эпистолярии Алкифрона, время действия которого отнесено в период классической Греции, имеются письма гетер, упомянуты Алкивиад, Сократ, Гликерия). Думается, для Кребийона опыт галантных писем Вуатюра (опубликованных в 1649 и 1729 году) был более важен. При этом сам факт пространственно-хронологической фиксации эпистолярия в Афинах говорит о том, что в случае с «Афинскими письмами» мы оказываемся на «пренатальной стадии» развития эпистолярного романа.
«Афинские письма» включают в себя в общей сложности 138 писем – всё же меньше, чем у Монтескьё. Если в книге аббата Бартелеми время действия – период между веком Перикла и веком Александра (то есть от V века к IV), то у Кребийона – именно век Перикла (Перикл умер в 429 году). Некоторые из них носят четко политический характер (№ 18, 24, 31, 40, 65, 71, 84), но таковых явно меньшинство. Тут, например, описывается восстание на острове Самос против притеснений со стороны Афин; анализируется победа Фемистокла над персами в ходе Саламинского сражения и его противостояние с Кимоном Афинским; подвиги Перикла и его смерть от чумы (изложенная по Плутарху). Но делается всё это вполне лаконично, как бы в соблюдение тех правил, которые были сформулированы ещё римскими риторами: «Если тебе придется в письме освещать какое-то историческое событие, то следует уклониться от полного соблюдения правил писания истории, чтобы не нарушать очарования письма» (отрывок из компилятивного трактата «О письмах» Юлия Виктора, IV век н.э.). Имеются письма морального содержания (27, 46), отдаленно напоминающие о традиции Сенеки. И всё же безусловно доминирует «галантная» разновидность. Во многом Кребийон здесь воспроизводит мотив «антивоспитания» героя, который ранее был чётко артикулирован им в «Заблуждениях сердца и ума». Перед читателем разворачивается галерея возлюбленных Алкивиада: Гликерия, Эльпиника, Фрасиклея, Феогнида, Фемистея, Аспасия (которая сама принимает решение покинуть кавалера, и тот ударяется во все тяжкие), Немея. Особое внимание уделено Аспасии, которая вроде бы играла важную роль в политической жизни Греции (по Аристофану, из-за нее якобы и разгорелась Пелопонесская война).
Вторая часть названия романа Кребийона отсылает к топосу «найденной почты», который был широко представлен у французских авторов конца XVII-XVIII веков (включая Жана де Прешака и госпожу де Вильдье) и оказался весьма остроумно обогащён античными интерполяциями в малоизвестном, позднем сочинении Алена-Рене Лесажа «Найденный чемодан» («La Valise trouvée», 1740). Особенность фиктивного эпистолярия Лесажа заключается в том, что в чемодане с письмами современников вдруг обнаруживается ещё и достаточно обширная рукопись, также эпистолярного содержания. Таким образом, в текст «Найденного чемодана» внедряется памятник византийской литературы V(?) века «Любовные письма Аристенета», обнаруженный лишь в XVI в. Латинский перевод книги вышел в 1566 году, первое французское издание – в 1597. Письма (фиктивные) включают в себя пространные фрагменты из других античных авторов – Лукиана, Ахилла Татия, Филострата и даже Платона. В целом речь идет о произведении «беллетристическом» (С.В. Полякова), достаточно эротичном, но в то же время насыщенном рудиментарным психологизмом. Понятно, что «чувственный античный эрос» привлек внимание Лесажа, однако под его пером чувственность превращается в мягкую рокайльную чувствительность, а риторика в духе второй софистики – в галантную риторику. Часть писем Аристенета изъята за непристойность; повсюду добавлены мотивы рококо и сама соответствующая лексика: mélancolie, badinage, coquet, galant… В целом как Лесаж, так и Кребийон трактует античность примерно так же, как воспринимают в XVIII веке экзотический Восток, когда, по выражению Ф. Баргийе, «под прозрачным и волнующим воображение флёром проступает припудренная картина своего времени».
|
|
 |
|