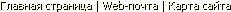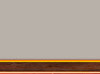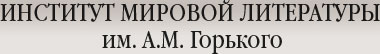|
|
 Научная жизнь
| Конференции
| 2007
| Русский романтизм в мировом контексте
| А.Н.Штырова - ""Герой нашего времени" Лермонтова в контексте французской романтической прозы"
Научная жизнь
| Конференции
| 2007
| Русский романтизм в мировом контексте
| А.Н.Штырова - ""Герой нашего времени" Лермонтова в контексте французской романтической прозы"
Штырова А.Н.
Роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» в контексте французской романтической прозы первой трети XIXв.
Выяснение характера творческих связей Лермонтова с западноевропейскими, в частности, французскими писателями-романтиками неоднократно предпринималось в работах дореволюционных и современных исследователей (А.Н. Веселовский, Н.П. Дашкевич, Э. Дюшен, И.И. Замотин, Н.Н. Котляревской, С.И. Родзевич, А.А.Шахов, С.В. Шувалов, А.В. Федоров, Б.В. Томашевский, Б.М. Эйхенбаум, Е.Н. Михайлова, И.В. Карташова, В.В. Липич, Н.Г. Калинникова, Б.Т. Удодов, Т.Т. Уразаева и др.), и само возобновление поисков решения этой проблемы на все новых этапах развития литературоведческой науки свидетельствует, прежде всего, о крайней ее сложности, многоаспектности. Лермонтов принадлежит к гениальным писателям девятнадцатого века, произведения которых являются поистине шедеврами русской классической литературы, обладающими неисчерпаемым философским и эстетическим потенциалом. С другой стороны, в произведениях авторов французского аналитического (или, как его иначе определяют, «исповедального», «интимного» (Monglond A., Moreau P.), «личного» («субъективного», «персонального») (Ph. Van Tieghem) романа романтическая проза достигла большой художественной высоты. Именно французскими романтиками были выработаны новые способы изображения человека. Общепризнанным является тот факт, что французский аналитический роман стоит у истоков новой европейской прозы. Хотя авторы французского аналитического романа отличаются яркой индивидуальностью, на наш взгляд, существует типологическая общность их эстетических установок, выражающаяся в том, что они предпринимали попытку художественного исследования личности, сформированной «переходной» эпохой. В таких произведениях, как «Рене», «Атала» Шатобриана, «Оберман» Сенанкура, «Жан Сбогар» Нодье, «Адольф» Констана, «Исповедь сына века» Мюссе французские писатели делали попытку создать «образ века» – дать оценку современной духовной обстановки, отразить собственное видение основных тенденций настоящего времени. Взятые в совокупности, эти произведения составляют контекст романтической прозы, с которым, как представляется, роман Лермонтова «Герой нашего времени» состоит в своего рода диалогических отношениях.
О.Б. Вайнштейн высказала ценные суждения о диалогическом принципе эстетического мышления романтиков. «Творческая энергия», по ее мнению, реализуется «через контакт, соприкосновение с Другим Я. Автор не в состоянии создать что-либо в пустоте, нужно второе встречное сознание»1. Вследствие этой сознательной установки художников-романтиков на общение, диалог, создаются особые условия восприятия романтического произведения, в котором большую роль призвана играть ассоциативность, причем максимально полно смысл произведения выявляется при его прочтении в широком литературном контексте, освещающем определенные моменты новым смыслом. Подобная особенность восприятия романа Лермонтова уже отмечалась в литературоведении. «Смысл «Героя нашего времени», состоящего из обособленных эпизодов, сюжетных пропусков и умолчаний, относящихся к самым острым и волнующим современников темам, в своей целостности, связи и глубине может быть понят лишь в результате повышенной творческой активности читателя, извлекающего из романа его скрытое «дополнительное» содержание. … само право на существование в общей системе романа (выд. Д.Е. Максимовым. – А.Ш.) отдельных его частей… и их последовательность невыводимы из одного лишь эмпирического характера Печорина и его биографии и требуют для своего обоснования больших социально-философских идей, явно подразумеваемых в романе и освещающих его изнутри, почти так же, как содержание символа освещает и «организует» его образную плоть»2. «Герой нашего времени» – роман, в самом замысле которого лежала установка на диалог, воплощение нового этапа исканий героя «переломной эпохи». «Предпосылкой» возникновения этого диалога явилась своеобразная идейная открытость произведений французских романтиков, оставляющих впечатление неразрешенности заявленных в них философско-эстетических вопросов.
История «молодого человека XIX столетия» (М.Горький) стала задумываться писателями-романтиками и восприниматься читателями как некий «коллективный» труд. Создавалась особая атмосфера восприятия произведений, вырабатывался специфический способ этого восприятия, когда в один ряд ставились герои, стоящие друг от друга в хронологическом отдалении, но объединенные мировоззренческой близостью, единой векторной устремленностью духовных исканий. Подтверждением этой мысли может служить следующее суждение Пушкина по поводу героя романа «Адольф»: «Бенжамен Констан первый вывел на сцену сей характер, впоследствии обнародованный гением лорда Байрона»3. «Что такое Рене, как не тот же Корсар и Лара – только не преступивший страшной бездны, в которую они ринулись, а остановившийся пред нею в болезненном недоумении?»4, – писал А. Григорьев.
В сознании читателя возникал целый ряд "героев века" и, следовательно, индивидуальная история, прочитанная "на фоне" других историй, приобретала новые черты, обогащалась некими нюансами. Герою для того, чтобы быть понятым, не требовалось предоставить свою подробную биографию – для читателя того времени было достаточно ряда «намеков». По мысли Л.Я. Гинзбург, о своих «авторских правах» на «байронического героя», кроме Байрона, может заявить еще целый ряд европейских писателей-романтиков. «Байронический герой возник до Байрона и пережил длинный ряд подсказанных общественной обстановкой превращений – от Рене Шатобриана до Ж. Сореля, Печорина, Ф. Моро. Опознавательные признаки были отработаны столь отчетливо, что любой из них вызывал к жизни целостный образ»5. Эта общность «литературного ряда», созданного в произведениях художников-романтиков, посвященных изучению проблемы мировоззрения современного человека, позволяла писателю, не останавливаясь на уже сказанном, непосредственно сконцентрировать внимание на раскрытии каких-то новых, своеобразных, индивидуальных черт своего героя, являющегося литературным «собратом» героев предшествующих.
Шатобриан, влияние философско-эстетических идей которого на последующую литературу было колоссально6, был первым романтиком, описавшим духовное состояние личности, живущей в «переходный» период. Рене переживает состояние «смутности страстей» – несогласованности движений разума и душевных влечений, сопряженной с убежденностью героя в том, что действительность, которую он познал в основном априорно, не соответствует идеалу абсолютного совершенства, созданному его воображением. Это состояние в той или иной степени характеризует внутренний мир самых разных романтических героев, которые либо отвращаются от мира (Оберман), либо бросают вызов Богу и мстят за несовершенство мира (Жан Сбогар, Октав). Показательно, что в письме М.А. Лопухиной от 4 авг. 1833г. Лермонтов передает состояние крайнего разочарования, которое он пережил, очутившись в обстановке юнкерской школы, реминисценцией из трактата Шатобриана «Гений христианства»: «Моя жизнь до сих пор была рядом разочарований, теперь они смешны мне, я смеюсь над собою и над другими. Я только отведал удовольствий жизни и, не насладившись ими, пресытился» (выд. мн. – А.Ш.)7. Ср.: «…Мы живем с полным сердцем в пустом мире и, ничем не насытившись, уже всем пресыщены» (выд. мн. – А.Ш.)8 9. Следующее признание Лермонтова (сделанное в этом же письме) предвосхищает историю духовного падения, рассказанную героем «Исповеди сына века»: «…пора моих мечтаний миновала; нет больше веры (выд. Лермонтовым. – А.Ш.); мне нужны материальные наслаждения, счастие осязательное, счастие, покупаемое золотом, которое носят в кармане, как табакерку, чтобы оно только обольщало мои чувства, оставляя в покое и бездействии мою душу!..» (4, С. 330).
Взгляд Рене на земную цивилизацию – это взгляд «извне», а не «изнутри», подобный взгляду Творца на творение. Именно критическая мысль, породившая это противопоставление субъекта объекту, вывела героя за пределы «круга» мировой истории. Также этому немало способствовало и гипертрофированное воображение Рене, заставляющее его устремляться за пределы наличного мира, к неведомой, идеальной цели, которая не находит выражения в каких-либо четких формулировках. Он мечтает о совмещении несовместимого – об обладании вечностью на земле, о том, чтобы преходящее, тленное вместило в себя абсолютное и преодолело, таким образом, свою ограниченность, сознание которой мучительно для человека. Порою, устав от вечного стремления, конечной точки которого он сам не знает, Рене начинает думать, что предпочел бы состояние покоя. Но чрезвычайно деятельное критическое начало, питающее воображение героя и направляющее его поиск, заставляет Рене отвергать всякую фиксированную, близкую к реальному воплощению цель, т. к. ее достижение подразумевает остановку. «Увы! Одержимый слепым влечением, я ищу лишь некоего неизведанного блага. Моя ли вина, если … все завершенное не имеет ценности в моих глазах? Однако же мне приятно бывает однообразие повседневных переживаний и чувств, и если бы я еще подвержен был безумию верить в счастье, то искал бы это счастье в привычке»10.
Подобное противоречивое, парадоксальное состояние сознания – желание покоя и одновременная устремленность к неведомой цели, отвержение этого покоя, было очень близко Лермонтову и нашло выражение в поэтической формуле: «Увы, – он счастия не ищет / И не от счастия бежит!» («Парус», 1832) (1, 241).
Как у Шатобриана, а позже у Мюссе, поколение потомков у Лермонтова противопоставлено поколению «предков» с их наивной верой, отсутствием обостренного самосознания. В главе «Фаталист» Печорин сопоставляет миросозерцание «предков» и «потомков». «Я возвращался домой пустыми переулками станицы; … звезды спокойно сияли на темно-голубом своде, и мне стало смешно, когда я вспомнил, что были некогда люди премудрые, думавшие, что светила небесные принимают участие в наших ничтожных спорах… Но зато какую силу воли придавала им уверенность, что целое небо, с своими бесчисленными жителями, на них смотрит с участием, хотя немым, но неизменным!… А мы, их жалкие потомки, скитающиеся по земле без убеждений и гордости, без наслаждения и страха, кроме той невольной боязни, сжимающей сердце при мысли о неизбежном конце, мы неспособны более к великим жертвам ни для блага человечества, ни даже для собственного нашего счастия…» (4, С. 288-289). Размышления героя о миросозерцании «предков» вызывают ассоциации с широким кругом философских идей: космизмом античной философии, возрожденческим пантеизмом, натурфилософией Шеллинга, гармоническим мировоззрением, универсализмом ранних немецких романтиков, утверждавших прочность духовных связей человека-микрокосма со Вселенной. Между подобными представлениями существует типологическая общность, выражающаяся в том, что в них не акцентируется обособление личности, отсутствует принципиальная противопоставленность субъекта объекту, человека миру, природе, обществу. Так же как и у французских романтиков, печоринское поколение «вкусило от древа познания», оно противопоставлено «предкам» с их наивной верой, мировоззрение которых отличается гармонией и стабильностью. Как и в произведениях французских романтиков, «потомки» у Лермонтова соединяют в себе и черты, присущие «юности» – могучие духовные силы, и безволие, глубокую апатию, «мировую скорбь», «постыдное равнодушие» к добру и злу. При этом для русского и французских писателей особенно актуальным оказывается вопрос, на что направит свою волю разочарованная личность, лишившаяся веры в незыблемость Божественных установлений и готовая стать по ту сторону добра и зла.
Утверждая идею восходящего развития человеческого духа, Лермонтов и французские романтики не разделяли априорного оптимизма просветителей как относительно могущества человеческого разума, так и относительно «природной», прирожденной добродетели человека. Уже Шатобриан в полной мере осознал опасность соединения «природной» страсти с мыслью о несовершенстве всего земного, характерной для личности с гипертрофированным самосознанием. Нодье ставит в своем романе чрезвычайно важную нравственно-этическую проблему, которая впоследствии привлечет внимание и Лермонтова – это вопрос о том, к каким последствиям приводит соединение в сознании «разочарованного» героя мысли о несовершенстве мира, «идеи зла», со страстью, дающей волю к действию.
В повести «Жан Сбогар» Нодье, продолжая размышления над проблемой современного «рефлектирующего» человека, указал на глубокое родство своего героя-разбойника с отшельником-страдальцем Рене, предпослав десятой главке эпиграф, взятый из трактата Шатобриана «Гений христианства» (глава «О смутности страстей»): «Еще не насладившись, мы уже разочарованы; желания еще остаются, но иллюзий больше нет. Фантазия богата, плодовита и чудесна; жизнь бедна, бесплодна и лишена очарования. С полным сердцем живем мы в пустом мире и, еще ни от чего не вкусив, ни к чему уже не чувствуем вкуса»11.
Герой Нодье, как и герои Сенанкура, Шатобриана – мечтатель, в нем сильно стремление к высоким идеалам, созданным воображением. Убедившись, что существование добра в современном мире является не более чем бесплодной иллюзией, созданной неискушенный сердцем, постигнув несправедливость социального порядка, Сбогар находит цель, ради которой стоит действовать. В душе юноши-мечтателя зарождаются «демонические» черты, его неудовлетворенность существующим порядком вещей выливается в борьбу с миром за утверждение в нем благородных идеалов.
В духовной эволюции Печорина предполагается наличие подобного периода, роднящего его с героями Шатобриана, Сенанкура, Нодье, но Лермонтов относит этот этап к «предыстории души» героя. В одном из внутренних монологов (глава «Фаталист») Печорин вспоминает, что когда-то был прекраснодушным мечтателем, жизнь которого была безраздельно заполненной умозрительной, не находящей выхода активностью воображения, и пережил разочарование, столкнувшись с «хладной», показавшейся ничтожно-пошлой «существенностью»: «В первой молодости моей я был мечтателем; я любил ласкать попеременно то мрачные, то радужные образы, которые рисовало мне беспокойное и жадное воображение. […] В этой напрасной борьбе я истощил и жар души и постоянство воли, необходимое для действительной жизни; я вступил в эту жизнь, пережив ее уже мысленно, и мне стало скушно и гадко, как тому, кто читает дурное подражание давно ему известной книге» (4, С. 289).
Состояние, пережитое Печориным в «первой молодости», имеет много общего с состоянием «зыбкости страстей» (Шатобриан), испытываемым героями французской литературы: герой Лермонтова обладает страстной натурой, богатым воображением, но его так же ждет преждевременное разочарование, вызванное рефлексией, априорным познанием жизни, и «неисцелимая скука» (Сенанкур), отвращение к миру и людям, гибель духовных сил. Показательно, что приведенный монолог посвящен описанию только одного состояния – таким образом Печорин как бы обозначает определенный период, один из уже пройденных этапов своей жизни, после которого он оказывается перед выбором пути. Герой избирает действие, сопротивление, судит общество и мстит ему.
Нодье, по сути, первому удалось показать, как герой-мечтатель приходит к «идее» мщения, саму логику совершившегося в его внутреннем мире перехода от страсти-любви к страсти-ненависти: «… я часто томился какой-то непостижимой потребностью быть любимым; меня приводила в отчаяние уверенность, что никогда моя избранница не последует за мной в этот пустынный край…. Я понял тогда, что самое нежное чувство в страстном сердце может стать яростью. Я ненавидел мир, обладающий этим неведомым сокровищем… […] С каким-то бешенством я представлял себе, как сладостно было бы мне доказать им, сколь ложны их тщеславные предрассудки, проливая на их глазах кровь или приводя их в ужас заревом пожара…»12.
У Сбогара была «нежная, любящая душа, и благородное прекрасное лицо», но душа была «изуродована, озлоблена, извращена несчастьями», а на лице он вынужден носить маску. В исповеди Мери Печорин говорит о гибели своих «лучших чувств», обусловленной влиянием общества: «Я глубоко чувствовал добро и зло; никто меня не ласкал, все оскорбляли: я стал злопамятен...»; «Я был готов любить весь мир, – меня никто не понял: и я выучился ненавидеть!» (4, С. 248). Печорина и Сбогара объединяет понимание вины в их трагедии окружающего мира, которая, как им кажется, состоит в том, что детское стремление к любви, изначально присущее человеческой душе, не находит себе выхода в пораженном злом обществе. Нравственно-этическая грань конфликта героя и общества у Лермонтова и французских романтиков остается одной и той же – в основе его лежит неприятие мира, в котором процветает зло и нет места идеальному представлению о жизни, созданному воображением.
Как бы подхватывая «демоническую» логику Сбогара, Печорин формулирует свой жизненный принцип – «кодекс мести». Печорин говорит о зарождении «идеи зла», отрицания, разрушительной страсти как ответе на царящую в мире несправедливость: «…честолюбие у меня подавлено обстоятельствами, но оно проявилось в другом виде … Зло порождает зло; первое страдание дает понятие об удовольствии мучить другого…» (4, С. 246). «Идея зла», которой Печорин «предается» так же, как и Сбогар, является, таким образом, откликом на пережитое героем страдание, причем, как и у Жана Сбогара, она становится заставляющей активно действовать разрушительной страстью, удовлетворение которой связано со своеобразным наслаждением.
«Высокая цель» Сбогара, созданная гордыней его мизантропического ума, не свободна вместе с тем от стремления излить личную обиду на несовершенный мир. Преданный идее его преобразования в соответствии со своими представлениями о справедливом мироустройстве, Жан Сбогар считает себя в праве переступить через существующие моральные нормы, ибо «презренная толпа» не имеет о них правильного, истинного представления. Трагедия Сбогара заключается в том, что вместе с разрушением мира зла он несет несчастье ни в чем не повинным людям. Идея преобразования заслонила для Сбогара саму цель преобразования – благо человечества и человека. В одной из дневниковых записей Сбогар высказывает мысль, что «Есть одно препятствие к освобождению городов – это сами города» 13. Поскольку сама его идея-страсть до некоторой степени есть жажда мести, то исчезает грань, существующая между борьбой за благо мира и местью этому миру, местью, проникнутой ненавистью и наслаждением. В размышлениях Нодье звучит религиозная мысль, суть которой заключается в том, что нарушать божественное установление, вершить судьбы мира непозволительно для человека. Это грех, и Сбогар, осознавая свою обреченность, в душевном смятении ожидает божественного возмездия. Притом, что действия Сбогара имеют субъективно высокую цель, а действия Печорина такой цели не имеют, результаты их оказываются одними и теми же: это гибель людей, близких героям. Показав героя, охваченного идеей-страстью, преданного ей всем существом, ставшего как бы ее орудием, Нодье совершил открытие, предвосхитившее открытие Достоевским типа героя-идеолога.
Лермонтов и Нодье, изображая героев, обладающих чрезвычайно чутким этическим сознанием, предельно заостряют постановку проблемы «философии протеста»: в мире, с одной стороны, существует вопиющая несправедливость, низость, с которой благородное, высокое сердце просто не может смириться. Герои не желают зла ради самого зла (Сбогар в одной из дневниковых записей высказывает мысль, что знамя войны за высокие цели, если оно смочено слезой ребенка, для него безнадежно опорочено14), но в то же время в своих поступках они переступают заповедные для человека границы и оказываются преступниками. Вопрос в обоих случаях осложняется еще и тем, что намерения героев не вполне свободны от желания осуществленной мести, некой «сделки с совестью» (Лермонтов). Таким образом, с одной стороны оказываются моральные нормы, очевидно не действующие в этом мире, а с другой – человек, который понимает их условность и относительность и решает восстановить попранную справедливость, но обнаруживает, что, встав по ту сторону добра и зла, он сам становится преступником.
Эгоистический порыв Печорина, страсть, охватывающая его существо, порою (например, когда, увлеченный погоней за Казбичем, он не слышит предупреждений трезво оценивающего ситуацию Максима Максимыча), ставят его вне морали, вне гуманизма так же, как и Сбогара, написавшего в своем дневнике: «Убить человека в порыве страсти – это понятно» 15. Продолжая и развивая поставленную Нодье проблему на новом уровне, Лермонтов дает по сути дела реалистическое объяснение поступков Печорина, ощущающего себя «топором в руках судьбы» и уже непосредственно предвосхищает Достоевского, связывая зародившуюся в сознании героя «идею мести» с болезненным переживанием им личной уязвленности и остро почувствованным голосом оскорбленного самолюбия, требующего удовлетворения. В «Жане Сбогаре» за пределами повествования оставался «процесс» суда героя над миром. Как бы восстанавливая этот фрагмент духовной биографии, Лермонтов изображает поведение Печорина на дуэли, что позволяет раскрыть логику «демонического героя», берущего на себя провиденциальные функции. В романе Нодье звучит религиозная мысль: нарушать божественное установление, вершить судьбы мира непозволительно для человека. Осознавая свою обреченность, Сбогар ожидает божественного возмездия. Не снимая полностью темы роковой обреченности, Лермонтов ставит вопрос о виновности человека, сделавшего зло своим жизненным принципом и явившегося как бы орудием этой идеи-страсти. Печорин вплотную подходит к осознанию собственной вины и ее причины – эгоизма, ставшего «жизненной философией»: «Моя любовь никому не принесла счастья, потому что я ничем не жертвовал для тех, кого любил: я любил для себя, для собственного удовольствия; я только удовлетворял странную потребность сердца, с жадностью поглощая их чувства, их нежность, их радости и страданья – и никогда не мог насытиться» (4, С. 268-269). Лермонтов до предела обнажает связь «идеи зла» с эгоизмом и индивидуализмом.
Достигнутая героями французских романтиков вершина интеллектуального развития одновременно явилась и трагическим этапом: осознав творческую мощь своего разума, его созидательные потенции, рефлектирующий герой лишь разрушил веру в себя, в жизнь, в чувство и в самую мысль. Рефлективное сознание, лишенное опоры на внеличные авторитеты, приближается к опасному пределу, балансируя на том рубеже, за которым оно уже обращается против самого его носителя, грозя вырождением заложенного в этом типе мировоззрения позитивного, гуманистического содержания. Русский и французские писатели сближаются в утверждении необходимости преодоления излишнего субъективизма, индивидуализма героя. Однако французские романтики – Шатобриан, Констан, Нодье, Сенанкур – не видели перспектив дальнейшего поступательного развития «рефлектирующего» сознания. По их мнению, условием возможности более гармонического состояния духа для «рефлектирующего» героя является усвоение им элементов «наивного» миросозерцания, способности любить, верить вопреки знанию (Шатобриан, Нодье, Мюссе).
Отталкиваясь от размышления Паскаля, Шатобриан говорит о гармоническом духовном состоянии «просвещенного неведенья» как о высшей ступени развития, которой это сознание может достигнуть. «У всякого знания есть две крайние точки, и они соприкасаются, одна – это полное и естественное неведение, в коем человек рождается; другой точки достигают возвышенные умы, познавшие все, что доступно человеческому познанию, уразумевшие, что они по-прежнему ничего не знают, и, таким образом, пришедшие к тому самому неведению, о которого некогда ушли; но теперь это неведение умудренное, познавшее себя. Те же, что, выйдя из природного неведенья, не достигли неведенья просвещенного, нахватались обрывков знаний и строят из себя людей сведущих. Они-то и мутят мир, они-то и судят обо всем вкривь и вкось. Народ и сведущие люди составляют обычно основу общества; остальные презирают их и презираемы ими» (Г.Х., С.198).
Хотя религиозное переживание, наивно-поэтическое отношение к жизни и другим французским романтикам представлялось противовесом, антитезой критического типа миросозерцания, вернуться к «непосредственности» для их героев оказывается невозможным. Таким образом, французские романтики не видели никаких перспектив возникновения связей, «мостов» между нерефлективным и рефлективным типами сознания.
Смерть героя Шатобриана оставляет только гадать, пришел ли он к некоему духовному перелому. Возможно, что перед лицом смерти Рене иначе взглянул на жизнь и обрел понимание ее смысла.
Герою Сенанкура присуще противоречие между представлением о субъекте как творце обстоятельств и убежденностью в том, что объективные закономерности все же имеют определенную власть над человеческим существованием. Хотя в дописанном почти через 30 лет после создания основного текста романа дополнении к нему Сенанкур показывает, что Оберман познал счастье реальной борьбы, эта борьба не связывается героем с теми высокими целями служения обществу, о которых он мечтал на протяжении долгих лет. Оберман бросает вызов разъяренной стихии ледяного потока, и высший смысл его деятельности Сенанкуру представляется в том, что герой способен пренебречь законами объективной действительности, преодолеть опасность своим мужеством, усилием своей воли. Французскому писателю остается близок агностицизм кантовской гносеологии, основанный на активности сознания творящего субъекта. «… если что и представляется мне всякую минуту в ином свете, то отнюдь не жизнь во всей ее совокупности, а лишь каждое из относящихся к нам следствий сего великого явления; не общий порядок вещей, а лишь моя способность установить его для себя»16. В сущности, Оберман не пережил принципиального изменения и остался на тех же мировоззренческих позициях, которые изначально породили его «мировую скорбь». Печорин же, напротив, становится победителем, проявив способность учитывать эти законы реальности, более гибко соотносить субъективную волю с закономерностями объективной действительности (глава «Фаталист»).
Лермонтов предлагает во многом иное решение проблемы. Поскольку с аналитической деятельностью сознания связана выработка более диалектичного, объективного отношения человека к себе и миру, в ней обнаруживаются плодотворные потенции, открывающие новые перспективы духовного развития личности.
В «Фаталисте» вновь возникает тема утраты иллюзий, разочарования в юношеских наивных мечтах. В представлении Лермонтова, это «отрезвление», безусловно, имеет позитивные стороны. «Беспокойно-любопытный» (Лермонтов) характер героя испытывается в ситуации, требующей решительного действия на основе тщательно взвешенного решения. Сомнение здесь оказывается залогом необходимой осторожности; оно способствует «диалектизации» взгляда героя на мир; знание психологии буквально спасает Печорину жизнь17.
«Излечение» героя Мюссе от духовной болезни заключалось в обретении им нового взгляда на человеческое существо, который не абсолютизировал бы лишь «материальную» сторону жизни. Если герой Мюссе пытается идеализировать, одухотворить образ земной женщины, то Печорин, скорее, стремится в реальном, "земном" женском характере за «насмешками», «завистью», «упреками» обнаружить нечто позитивное, при этом воспринимая «лес» и «светлую поляну» с «цветущим миртом» как черты, диалектически связанные между собой.
Острота самосознания личности порождала у «рефлектирующих» героев французского «исповедального» романа «мировую скорбь». Перед глазами героев Сенанкура, Шатобриана, Нодье, Мюссе возникает ужасающая картина абсолютного разрыва материальной и духовной сторон человеческой жизни, когда им представляется, что все мироздание управляется лишь физическими законами, «великой силой притяжения» (Мюссе), и человек предстает не более чем атомом в ряду прочих бессознательных атомов, по издевке какой-то жестокой, равнодушной к людским страданиям силы обреченным не просто существовать, но существовать в сознании неизбежности и близости собственного уничтожения.
Мысль об обреченности человека на бесследное уничтожение обессмысливает саму его жизнь. С особой остротой эта проблема поставлена в произведениях Шатобриана, Сенанкура, Нодье, Мюссе. Разуверившись в существовании высшего смысла человеческой жизни, придя к атеистическому, материалистическому взгляду на жизнь, когда она представляется лишь одной из форм развития вечной неуничтожимой материи, герои Мюссе и Нодье оказываются близки к тому, чтобы совершить «интеллектуальное» убийство.
В сознании Печорина появляются новые черты, которых не было у героев французских романтиков. Это, например, его отношение к смерти. Если у героев французской романтической прозы религиозный скептицизм вызывал отчаяние и мучительный, бессильный протест против ничтожности человеческих усилий перед властью безликой всепоглощающей бездны, то Печорин в финале «Фаталиста» заявляет: «я … смелее иду вперед, когда не знаю, что меня ожидает. Ведь хуже смерти ничего не случится – а смерти не минуешь!» (4, С.292). Печорин как бы обрывает свои размышления на полуслове, на том месте, где у героев французских романтиков они переходили в «отвлеченный» план. Своеобразная «объективность» подхода Печорина к жизненным явлениям проявляется в том, что о смерти – таинственном факте, превышающем возможности человеческого разумения, герой Лермонтова говорит как об универсальном законе. Надо отметить особый, лермонтовский «поворот» этой темы. На фоне размышления о неизбежности смерти Печорин чрезвычайно акцентирует романтическую тему утверждения величия и бесстрашия человеческого духа. Хотя у героя Лермонтова не возникает, в отличие от героев французских романтиков, протеста против быстротечности и ничтожности, бессмысленности бытия, размышлений о «затерянности» человека в мироздании, в подтексте его рассуждения отчетливо чувствуется важность для него романтически масштабных, грандиозных мировоззренческих вопросов. Их нерешенность для Печорина подчеркивается тем, что, признавая подчиненность человека природной необходимости, герой, вместе с тем, не делает ни атеистических, ни материалистических выводов.
Таким образом, соприкасаясь с французскими романтиками в представлении о духовном облике настоящего поколения, Лермонтов предлагает во многом иной взгляд на проблему. Интенсивность сознания личности, по мнению русского писателя, не переходит в индивидуализм, в «мировую скорбь» в том случае, если она оказывается связанной с более диалектичным, объективным отношением человека к самому себе и миру. Эти черты, в понимании Лермонтова, являются теми новыми идеями в мировоззрении героя, которые необходимы для преодоления «болезни века».
В отличие от авторов французской романтической прозы, Лермонтов в настоящем состоянии мировоззрения современника видел не только выражение критического предела, последний этап, придя к которому, «рефлектирующий» герой сталкивается с принципиально неразрешимыми мировоззренческими противоречиями. По мысли русского писателя, в самой аналитической активности сознания могут обнаружиться плодотворные потенции, открывающие новые перспективы дальнейшего духовного развития личности. Лермонтов утверждал идею ее духовного взросления, «возмужания», выдвигая в связи с этим понятие «зрелости», критерием которой для русского писателя является неподкупно-строгое отношение человека к самому себе. Эта мысль звучит в размышлениях Печорина о «суде» «души над самой собой», о «высшем состоянии самопознания», поднявшись до которого, человек становится способен постигнуть правосудие Божие, даже прийти к мысли о некой благотворности страдания. При этом, как и в раннем творчестве, Лермонтов видит «залог величья человека» в его «самостоянии». Лирический герой раннего Лермонтова считал себя в праве стоять лицом к лицу с Творцом и судить мироустройство как равный ему. Зрелая личность, о которой рассуждает Печорин, судит прежде всего себя самое. Это бестрепетное отношение к себе, при сохранении всей интенсивности самосознания, является, по мысли Лермонтова, путем преодоления индивидуализма. Высшая степень самопознания, по мысли Лермонтова, совпадает с высшей степенью требовательности человека к себе. Русский писатель рассмотрел перспективы «рефлектирующего» сознания в новом аспекте и подчеркнул содержащиеся в нем положительные моменты, заключающиеся в возможности направить аналитическую энергию в созидательное русло. В подобном подходе к разрешению проблемы состоит «ответ» Лермонтова французским романтикам.
1 Вайнштейн О.Б. Язык романтической прозы. М., 1994. С. 67-68. См. также: Вайнштейн О.Б. Индивидуальный стиль в романтической поэтике. // Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. М., 1994.
2 Максимов. Д.Е. Поэзия Лермонтова. М;Л., 1964. С. 205.
3 Пушкин А.С. О переводе романа Б. Констана «Адольф». // Пушкин А.С. Мысли о литературе. М., 1988. С.101.
4 Григорьев А.А. Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина. // Григорьев А. А. Искусство и нравственность. М., 1986. С.115.
5 Гинзбург Л. О литературном герое. Л., 1979. С.21 .
6 «…маленький роман («Рене». – А.Ш.), являющийся одновременно и порождением определенной эпохи, и причиной /возникновения/ нового психологического климата». // Duhamel R. Aux sources du romantismе français. Canada. Ottawa, 1964. Р. 76.
7 Лермонтов М.Ю. Собр. соч.: В 4 т. М., 1953. Т.4 . С. 331. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы.
8 Шатобриан Ф.Р. де Гений христианства. Пер В.А. Мильчиной. // Эстетика раннего французского романтизма. М., 1982. С.154. . Далее ссылки на это издание даются в тексте с страницы.
9 Ср. в «Думе»: «Едва касались мы до чаши наслажденья, / Но юных сил мы тем не сберегли, / Из каждой радости, бояся пресыщенья, / Мы лучший сок навеки извлекли» (1, С. 273).
10 Шатобриан Ф.Р.де. Рене. //Французская новелла XIХв. М.;Л., 1959. С. 13.
11 Нодье Ш. Жан Сбогар. Пер. Н. Фарфель. // Французская романтическая повесть. Л., 1982. С. 203.
12 Нодье Ш. Ук. соч. С.225.
13 Нодье Ш. Ук. соч. С.231.
14 «Когда нации вступают в свой последний период, их объединяет один клич: все принадлежит всем! И в тот день, когда знамя, на котором начертан этот девиз, будет смочено слезами ребенка, я сорву его с древка и сделаю себе из него саван». Нодье Ш. Ук. соч. С. 233.
15 Нодье Ш. Ук. соч. С.230.
16 Сенанкур Э. П. де. Оберман. Пер. К. Хенкина. М., 1963. С.360.
17 Эта ситуация подробно рассматривалась в работах Т.Т. Уразаевой. См.: Уразаева Т.Т. «Журнал Печорина»: К проблеме исповедального повествования. // Проблемы метода и жанра. Вып. 13. Томск, 1986.
|
|
 |
|