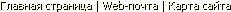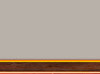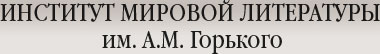|
|
 Научная жизнь
| Конференции
| 2007
| Русский романтизм в мировом контексте
| Е.Ю.Сапрыкина - Русская "воля" и западная свобода в романтическом приломлении
Научная жизнь
| Конференции
| 2007
| Русский романтизм в мировом контексте
| Е.Ю.Сапрыкина - Русская "воля" и западная свобода в романтическом приломлении
Е. Сапрыкина
Русская «воля» и западная «свобода» в романтическом преломлении.
На данную тему меня натолкнули, во-первых, работа над первым сборником нашей серии «Культура романтизма», называвшемся «Темница и свобода», а во- вторых, интерес, проявленный участниками одной происходившей во Франции международной конференции, когда я в своем докладе о романтическом изображении цыганки кратко охарактеризовала русское понятие «воля», к которому столь часто обращались русские писатели Х1Х в. Теперь мне хотелось бы подробнее остановиться на том, в каком контексте появляется понятие «воля» и в каком – «свобода», идентичны ли их художественные объемы в русском романтизме и совпадают ли они – и насколько - с понятием «свобода» в западной романтической традиции.
Как известно, в главных европейских языках есть понятие «свобода», а в русском существуют два понятия –«свобода» и «воля». Характерно, что в словаре Даля понятию «воля» отпущено три с половиной колонки, а понятию «свобода» - меньше одной. В русском языке содержание этих понятий во-многом совпадает, они близки по смыслу, так как оба подразумевают отсутствие ограничений, принуждения, стеснения, «простор в поступках», как сказано у Даля. Понятию «свобода» изначально присущ более общечеловеческий, нравственно-философский смысл. В западном романтическом контексте в нем сильна рационалистическая моральная составляющая, восходящая к философии свободы у Канта. Не случайно, на самом пике европейского романтизма в 1817 г. появляется поэма Байрона «Манфред», герой которой, равный в свободе надмирным духам, противопоставляет высшим силам свой «благородный разум» и страдает, томится безмерностью его свободы.
Но не случайно, также, что со словами «воля», «вольный» в русском языке существует гораздо больше идиом и поговорок, чем со словом «свобода». Видимо, «воля» органичнее психологии русского человека. «Воля» - это, если можно так сказать, «русское понимание», «русский идеал» свободы, полнее всего отражающий сокровенные черты русского сознания. На такую трактовку понятия «воля» наводят, в частности, рассуждения Николая Бердяева об амбивалентной самобытности психологии русского народа – в том числе о его стихийности, непокорности, культе скитальчества и бесконечной свободы, «духовных далей» и искательства «абсолютного во всем». Философ особо подчеркивал тягу русских к «абсолютной свободе», укорененность этой жажды абсолюта в необъятных просторах, «далях» русской земли, которые образуют «внутренний, духовный факт в русской судьбе»(я цитирую работу Бердяева «Судьба России. Опыты по психологии войны и национальности»). В свете бердяевского понимания особенностей русского самосознания «воля» в значении безграничной свободы, ничем не регламентированной непосредственности, стихийности в желаниях и поступках выражает одну из высших ценностей русского национального духа.
Опыт русской литературы Х1Х в. и в частности русского романтизма свидетельствует о том же. Русские писатели весьма тонко оперировали двумя понятиями «свобода» и «воля», делая их мерилом духовной состоятельности своих героев и при этом вскрывая неоднозначность, нравственную конфликтность, заложенную в каждом из этих понятий.
Так, Достоевский вкладывает в уста одного из каторжников, обитателей «Мертвого дома», знаменательное признание: на каторге русский человек быстро свыкается с лишениями, тяжким трудом и произволом надсмотрщиков (ведь и вне острога его жизнь не свободна от нужды, тяжелого труда и несправедливости властей), и не это тяготит его, а то, что «нету волюшки». Причем «волюшка» для специфического контингента острога – это не просто свобода от цепей и подневольного труда, а возможность буйно разгуляться, вкусить радости и опасности безграничной, возможно, даже разбойной вольницы. Романтическая литература заострила внимание на проблематичности, внутренней амбивалентности и «воли», и «свободы»,проявляющейся в рамках глобального для романтизма конфликта, на одном полюсе которого - индивидуум, а на другом – весь остальной мир.
Пушкин в поэме «Кавказский пленник» сталкивает оба эти понятия, вскрывает их взаимную относительность. Он делает своего Пленника наблюдателем «черкесской вольницы»: горцы просты, непосредственны и смелы, но их «игры воли праздной» коварны, кровавы и жестоки, и сам Пленник – не только наблюдатель, но и жертва этой «воли». Такая дикая «воля» не имеет ничего общего с идеалом («идолом») свободы Пленника, которого Пушкин наделяет комплексом вполне «европейского» романтического разочарованного мечтателя и почитателя «гордого призрака свободы».Это почитание вполне уживается в романтическом герое Пушкина с душевной закрытостью и высвечивает его нравственный ригоризм. «Европейцу»-Пленнику, жертве разбойничьей вольности горцев, возвращает свободу именно вольная в своих проявлениях любовь Черкешенки, а Пленник, спасая свое право быть гордым и свободным в таком личном чувстве, как любовь, становится виновником гибели своей освободительницы.
Внутренняя конфликтность понятий «воли» и «свободы» ярче всего проявилась в романтической трактовке цыганской темы. Тема эта, общая для русской и европейской литератур, позволяет уловить различие смысловых нюансов в понимании свободы как важнейшего для обеих культур нравственно-философского концепта.
Наиболее репрезентативным в этом плане будет сравнение пушкинских «Цыган»(1824, напеч. 1827) с «Кармен» Мериме( 1845). Слово «воля», «вольный» повторяются почти в каждой строфе поэмы Пушкина. Впрочем, слово «свобода» тоже - причем как аналог «воли». Безграничная стихийная свобода в ней предстает как идеал счастья, столь же манящий, сколь и недостижимый и противоречивый. Романтические цыгане у Пушкина – истинные «дети природы», они вольны, как сама природа, и Земфира – самое полное воплощение такой «воли». Но именно эта идеальная свобода, сходная с вольным полетом птицы или движением луны, ведет Земфиру к трагическому концу, свидетельствуя о правоте старого Цыгана, заметившего, что свобода «не всегда мила» и чревата несчастьем. В поэме Пушкина несчастье вызвано соприкосновением романтически идеализированной цыганской среды с пришельцем из «неволи душных городов», пожелавшим освободиться от законов их культуры, но так и не вытравившим из своего сознания их печать. Алеко хочет быть вольным цыганом, «вольным жителем мира», но он заблуждается, полагая, что «волен, как они». Истинным мерилом его «воли» становится любовь. Он любит Земфиру «горестно и трудно», и когда ее «сердце воли просит», Алеко мстит любимой за то, что она не пожелала быть ему «благодарной» за любовь и не признала его «права» распоряжаться ее сердцем и волей. Земфира нарушает принцип «цивилизованной» свободы – приоритет долга – и это побеждает в сознании романтического героя Пушкина любовь к «вольным» нравам, оскорбляет его самолюбие и ведет его к нравственной катастрофе, превращая Алеко в убийцу. «Но жить с убийцей не хотим» - этот приговор Старого цыгана возвращает Алеко в исходное его состояние изгоя. Вольная среда цыган в поэме Пушкина «беззаконна» и «дика», но в конфликте с «законом» индивидуалистической «свободы» она безусловно является позитивным началом. Правда, поэт в финале акцентирует внутреннюю трагичность и такой «воли»: «Но счастья нет и между вами, природы бедные сыны! И под издранными шатрами живут мучительные сны…»
Как и пушкинская Земфира, героиня новеллы Проспера Мериме превыше всего ценит свою свободу – независимость чувств и поведения, и ее свобода, с одной стороны, тоже вполне стихийна, беззаконна и дика. Причем не только в сфере чувств, но – важная особенность – и в сфере социальной. Мериме поэтизирует неуловимое очарование этой сильной непостоянной натуры, но построение повествовательного конфликта свидетельствует о том, что французский писатель далек от идеализации безграничной цыганской вольницы. Законы этой вольницы откровенно преступны. Критерий свободы отмечен у Мериме печатью «цивилизованной» морали, и в соответствии с нею героине приписаны все негативные качества цыганских обычаев и нравов – воровство, лживость, преступность, алчность, коварство и проч. Не случайно на сжатом пространстве своей новеллы Мериме постоянно заставляет своего читателя убеждаться именно в социальной опасности, которую несет в себе очарование Кармен. И наконец, в любовном конфликте, о котором рассказывает Хосе, Кармен играет безусловно негативную роль – она порабощает волю своего возлюбленного, сознательно ломает его жизнь, обдуманно превращает его в преступника и убийцу. Сильная индивидуальность, верная своей безграничной свободе, Кармен оказывается, подобно Алеко, вне сферы нравственности, но, в отличие от героя пушкинских «Цыган», она вполне органична их беззаконной среде.
Сравнение «классических» романтических произведений на цыганскую тему можно подкрепить кратким рассмотрением поэмы Баратынского «Наложница» («Цыганка», 1831), где проявления индивидуальной, эгоистической свободы героя в любви противостоят и одновременно совпадают по смыслу, уравновешиваются стихийным своеволием цыганки.
Еще один пример романтической трактовки темы – на этот раз западный – это роман Жорж Санд «Консуэло» (1843), героиня которого безгранично свободна только в своем искусстве пения; только в нем она – истинная цыганка. Во всех других проявлениях вольной цыганской природы Жорж Санд ей отказала: Консуэло внешне похожа на цыганку, она бедна, живет в лачуге и должна сама зарабатывать себе на жизнь, но целомудренна, сострадательна и добродетельна, она предана нравственным заветам своей покойной матери и вовсе не подвержена порывам страстей или влечению к безграничной свободе. Впрочем, писательница, понимая, насколько ее идеальная героиня не похожа на романтический стереотип цыганки, специально в начале романа сказала о спорности цыганского происхождения Консуэло.
|
|
 |
|