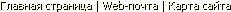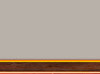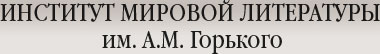|
|
 Научная жизнь
| Конференции
| 2007
| Русский романтизм в мировом контексте
| Е.Н.Халтрин-Халтурина - Женские образы в поэзии Е.А.Боратынского и У.Вордсворта
Научная жизнь
| Конференции
| 2007
| Русский романтизм в мировом контексте
| Е.Н.Халтрин-Халтурина - Женские образы в поэзии Е.А.Боратынского и У.Вордсворта
Материалы круглого стола
“Русский романтизм в мировом контексте”,
ИМЛИ РАН, 19 июня 2007 г.
Е. Халтрин-Халтурина
Женские образы в поэзии Е.А. Боратынского и У. Вордсворта
В предисловии к поэме[1] “Наложница” (позже переименована в “Цыганку”) Е.А. Боратынский поместил размышления о нравственности литературных произведений. В связи с выбранным им типом заглавных героинь (покинутые женщины), эти рассуждения оказались крайне необходимы. Он взялся защищать и “Наложницу”, и вышедшую ранее поэму “Бал” (а в некоторой степени и “Эду”) от порицаний, раздававшихся в адрес поэта со страниц не только дамских журналов: Боратынского упрекали в том, что его поэмы развращают читателя. В ответ Баратынский утверждал, что его произведения нельзя называть безнравственными – и в доказательство выделил несколько критериев, по которым можно судить о пользе или вреде литературного произведения. Среди этих критериев – верность изображения, полнота показаний и явная борьба героя с искушением. Так Боратынский считает, что верное изображение действительности всегда нравственно, оно не может принести читателю вред. Он говорит:
Ежели показанія ихъ <произведений.– Е.Х.-Х.> вѣрны, впечатлѣніе, вами полученное, будетъ непремѣнно нравственно, ибо зрѣлище дѣйствительной жизни, развитіе прекрасныхъ и безобразныхъ страстей, дозволенное въ ней Провидѣніемъ, конечно, не развратительно, и міръ дѣйствительный никого еще не заставилъ воскликнуть: какъ прекрасенъ порокъ! какъ отвратительна добродѣтель!
Изъ этого слѣдуетъ, что нравственная критика литературнаго произведенія ограничивается простымъ изслѣдованіемъ: справедливы или несправедливы его показанія?[2]
Нравственный эффект, производимый произведением, зависит также от полноты художественных показаний. Об этом поэт рассуждает следующим образом:
<…> откровенія всѣхъ своенравій чувственности, <…> хроники развращенія <…> конечно развратительны, но это потому, что ихъ показанія не полны. Въ дѣйствительной жизни за часами развратнаго упоенія слѣдуютъ часы тяжелой усталости; какое отвращеніе возбуждаютъ тогда въ развратникѣ воспоминанія нечистыхъ его наслажденій! Выразите также полно чувство послѣдующее, какъ полно выразили предыдущее, и картина ваша не будетъ безнравственною: одно впечатлѣніе уравновѣситъ другое.
Особенную роль в наставлении к добру поэт отводит главным героям и героиням. При этом герои не обязаны быть непогрешимыми. Они должны просто сопротивляться злу и бороться с искушениями. Изображение таких судеб не может быть безнравственным, каким бы ни был исход той борьбы. Обратимся к словам Боратынского:
Но не безнравственно-ли, скажутъ они <Г-да Журналисты. – Е.Х.-Х.>, то участіе, которое возбуждаетъ въ насъ герой трагедіи, романа, поэмы даже въ ту минуту, когда онъ уступаетъ преступному побужденію? Не говоритъ ли намъ наше сердце, что и мы охотно совершили бы то же преступленіе, надѣясь возбудить то же участіе? Если означенное лице безъ борьбы уступаетъ искушенію, оно не возбуждаетъ участія; не возбуждаетъ его и тогда, когда мы чувствуемъ, что оно не употребило всего могущества воли своей на побѣду преступной наклонности и позволило побороть себя, а не пало подъ силою обстоятельствъ, превышающихъ нравственную его силу.
В “Наложнице”, “Эде” и других своих поэмах Боратынский изображает определенный вид искушения – совместную жизнь в невенчанье – и борьбу молодых героинь с этим искушением. Заглавными героинями нескольких своих знаменитых произведений с печальным концом он делает покинутых женщин. Из крупных русских поэтов-романтиков Боратынский, пожалуй, – единственный, кто постоянно увлечен этим типом заглавных героинь.
В мировой литературе известен еще один яркий поэт-романтик – англичанин Уильям Вордсворт, – который, размышляя о нравственной пользе своих поэм и стихотворений[3], любил поместить в самый центр внимания романтическую героиню, некогда ответившую безоглядной любовью на кипучую страсть любезного друга, а впоследствии им покинутую. Достаточно упомянуть главных героинь его произведений “Тёрн”, 1798 г. (Марта была обманута своим милым, который, оставив ее в положении, обвенчался с другой), “Разрушенная хижина”, 1797–1798 (Маргарет с двумя малыми детьми была брошена на произвол судьбы своим мужем, который, чтобы избежать нищеты, тайно записался добровольцем в армию). Среди известных пассажей поэмы “Прелюдия” в этом же ключе представлены история Мэри из Баттемира, которая стала жертвой многоженца (Книга 7: Лондон), и трагическая история юных Водракура, Джулии и их ребенка, которые были разлучены непреклонной волей их кланов (Книга 9: Франция, рукописная редакция 1805 года).
В объемной исследовательской работе, которая может быть написана на тему “Женские образы в поэзии Е.А. Боратынского и У. Вордсворта”, целесообразно сравнить, как в русских и английских поэмах разрабатывались схожие образы покинутых романтических героинь, в чём здесь проявляются особенности русского и английского романтизмов. В сегодняшнем выступлении я охарактеризую некоторые из этих особенностей.
В романтической литературе, в отличие от литератур прежних эпох, положительные заглавные роли стали исполнять не прекрасные, а живописные героини. Особенно ярко это проявилось в Великобритании, где эстетическая категория живописного стала чуть ли не национальной гордостью. Так повелось благодаря внушительному вкладу, внесенному в европейское пейзажное паркоустроительство XVIII века британскими философами, садовниками, поэтами и художниками. Постепенно в Англии принципы живописной эстетики стали применяться не только к описаниям пейзажей, но и к человеческим персонажам[4]. Искусство и литературу заполонили колоритные герои сомнительного происхождения с взлохмаченными прическами, растрепанными одеждами, загорелыми лицами – и при этом с благородной душой. К категории таких непривычных героев причисляли чужеземцев, странников, стариков, одиноких матерей, помешавшихся от горя людей, карликов, креолок, цыган, куртизанок и т.п. Сначала живописные герои играли не совсем положительные роли (ср. Мол Фландерс из одноименного романа Д. Дефо). Многие из них занимали второстепенные позиции как в романах, так и на полотнах живописцев. Но постепенно такие герои становились все более дружелюбными (у Вальтера Скотта есть положительные живописные героини, хотя их роли не ведущие) и они стали выходить на первый план, да так, что в романах Джейн Остен главными – и самыми симпатичными – героинями стали не молчаливые белолицые красавицы, а живописные девчонки-сорванцы и старые девы. Вспомним, к примеру, подвижных, независимо мыслящих, говорливых, смуглолицых, озорных (и временами растрепанных) Кэтэрин Морлэнд, Лиззи Беннет, Энн Эллиот.
Из крупных английских поэтов-романтиков живописными героинями более всего увлекался У. Вордсворт. Он же чаще, чем другие английские романтики обращался к образу брошеной женщины, выдвигая ее на первый поэтический план. Что касается С.Т. Колриджа и Дж. Китса, они предпочитали наделять живописными чертами героев-мужчин, а не женщин. Таков в глазах свадебных гостей старый мореход, одетый в лохмотья и навязывающий слушателю свой нелепый рассказ о загубленном альбатросе; таков старик Главк в “Эндимионе” Китса. П.Б. Шелли, как и Байрон, более любил изображать не одиноких живописных героинь, а прекрасных дев, завладевших думами какого-либо грустного мечтателя или внезапно обнаруживающих свою ужасную демоническую сторону (ср. “демоническое возвышенное”). Но в этом мало живописного.
Отметим также особенности взаимоотношений байронического героя с разным видом героинь. В английской романтической поэзии байронический герой, как правило, питает любовь именно к прекрасной, а не к живописной героине. Живописная героиня может быть для него прислужницей, товарищем, печальным прошлым, но не дамой сердца. Иногда байронический герой аппроприирует живописное: рядится в экзотические одежды или приобретает увечья. Особенно это проявилось в литературе позднего романтизма и раннего викторианства: возьмем, к примеру, мистера Рочестера, наряжавшегося цыганкой, а позже получившего увечья во время пожара (Ш. Бронте “Джейн Эйр”, 1847 г.).
Таким образом, поздние английские романтики объединяют “живописное” с “байроническим” (на том основании, что и то и другое, в их понимании, есть проявление свободолюбивого характера) и противопоставляют, подчиняют этому сочетанию прекрасных героинь. Ранний романтик Вордсворт поступал иначе: у него всегда остается за кадром, в подразумеваемом прошлом то, что сегодня в литературе ассоциируется с именем Байрона – прекрасные девы и байронические негодяи. Крупным планом Вордсворт рисовал одиноких живописных героинь-страдалиц.
Среди основных особенностей вордсвортовских живописных покинутых героинь отметим следующие:
1) Внимание Вордсворта, как правило, занимает борьба молодой женщины с унынием (напомним, что, согласно Боратынскому, в нравственной литературе должна быть показана борьба с каким-либо искушением);
2) Это происходит потому, что Вордсворт описывает не саму историю соблазнения, а последствия незаконной любви, последствия обмана, которые трагически переживают его главные героини;
3) В частности, покинутые женщины у Вордсворта (Марта Рэй, Маргарет, Мэри из Баттемира, Джулия из 9 книги “Прелюдии”) – одновременно и одинокие матери;
4) Когда Вордсворт рассказывает печальные истории покинутых героинь, он непременно заинтриговывает читателя какой-либо тайной, обрисовывая какую-нибудь мрачно-таинственную деталь, свидетельствующую о некогда разразившейся трагедии. Значение этой детали не всегда можно “расшифровать”. Это могут быть заросшие развалины старого дома[5], заброшенный колодец[6], остатки виселичных цепей[7]… Это может быть и холмик чем-то “похожий на могилу”, который обрисован в небольшой поэме “Тёрн”:
– Не знаю; люди говорят,
Что мать младенца удавила,
Повесив на кривом сучке;
И говорят, что в озерке
Под полночь утопила.
Но все сойдутся на одном:
Дитя лежит под ярким мхом.
<…>
А кто-то гневом воспылал
И стал взывать о правосудье;
И вот с лопатами в руках
К холму явились люди.
Но тот же миг перед толпой
Цветные мхи зашевелились,
И на полста шагов вокруг
Трава затрепетала вдруг,
И люди отступились.
Но все уверены в одном:
Дитя зарыто под холмом.
Не знаю, так оно или нет;
Но только Тёрн по произволу
Тяжелых мрачных гроздьев мха
Все время гнется долу;
И сам я слышал с горных круч
Несчастной Марты причитанья;
И днем, и в тишине ночной
Под ясной блещущей луной
Проносятся рыданья:
“О, горе мне! О, горе мне!
О, горе, горе, горе мне!”
(Перевод А. Сергеева)
5) Симпатии Вордсворта-поэта всегда остаются на стороне его живописной героини.
В русской литературе рубежа XVIII–XIX веков главные живописные – и отметим, положительные – героини тоже появились. Но появилась и своя оригинальная трактовка этих героинь. К примеру, А.С. Пушкин в “Повестях Белкина” очень своеобразно обрисовал живописную дочь англомана Лизу Муромскую[8]. Здесь Пушкину оказался ближе путь не английских поэтов, представляющих живописных героинь как потерпевших от руки байронического негодяя (например, Вордсворт или Байрон), а английских романистов той же эпохи (например, В. Скотт и Дж. Остен): пушкинская живописная дочь англомана – не жертва и не прислужница. Она молода и очаровательна; она, а не какая-нибудь прекрасная беленькая барышня завладевает сердцем байронического Алексея. Но это только начальное сходство с английскими романами. Далее Пушкин все устраивает по-своему. В отличие от героев английских романов и позднеромантических поэм, всегда находящих способ подчинить “живописное” “байроническому”, Алексей Берестов в угоду “живописному” (по Пушкину, это созидательное начало) полностью отрекается от “байронического” (по Пушкину, разрушительное начало). Такое пушкинское обыгрывание двух ведущих английских эстетических категорий отличается проницательностью и не имеет известного нам прямого аналога в зарубежной литературе.
У Е.А. Боратынского тоже обнаруживается свой оригинальный почерк при изображении живописных героинь. Но прежде чем остановиться на особенностях его почерка, напомним, как построена поэма “Наложница” (позднее название “Цыганка”).
Заглавная героиня цыганка Сара – смугла и говорлива. Сара не претендует на образованность и изысканность манер, но она одарена пылким темпераментом, немного дика, талантлива в пении и танце. Она не вполне самостоятельна как персонаж (что напоминает не вордсвортовский, а позднеромантический английский подход к описанию живописных героинь): Сара является своеобразным “довеском” к байроническому герою Елецкому, его временной спутницей. Это легко увидеть хотя бы из краткого содержания поэмы “Наложница” (редакция 1829–1830 годов), которое мы передадим следующим образом:
Глава 1: Характеристика байронического героя Елецкого; его спутники: карлик Черномор и цыганка – “ангел” – Сара. Пирушки Елецкого описаны в сатирической манере, напоминающей гравюры Уильяма Хогарта.
Глава 2: Биография Елецкого до его встречи на Светлой неделе с прекрасной героиней Верой Волховской, в которую он не на шутку влюбляется.
Глава 3: Елецкий пытается попадаться Вере на глаза (встречи в июльском парке и на зимнем маскараде).
Глава 4: Благодаря подстроенной Елецким подмене экипажа, состоялось знакомство Елецкого с дядей и опекуном Веры; Вера Волховская и цыганка Сара встречаются.
Глава 5: История отношений Елецкого и Сары.
Глава 6: Елецкий становится завсегдатаем балов в доме Волховских. Вера привыкает к Елецкому, в ней пробуждаются нежные чувства. Вера примиряется с существованием Сары.
Глава 7: Перед Великим постом Елецкий уговаривает Веру тайно венчаться, и они устанавливают день побега. Окрыленный мечтами о будущем, Елецкий совершенно забывает о существовании Сары, живущей в его доме.
Глава 8: Сара добывает у старой цыганки приворотное зелье. Портрет страстно ревнующей и мятущейся Сары (демоническое возвышенное). Сара подливает зелье Елецкому – Елецкий неожиданно испускает дух.
Глава 9: Послесловие и ретроспект: после истории с Елецким у Веры отмерли все чувства. У гроба Елецкого плакал только карлик Черномор. Оставив труп Елецкого, Сара бежала обратно в табор и “в горе разум погребла”. Поэма заканчивается живописным портретом Сары.
На фоне развития отношений байронического героя Елецкого и прекрасной Веры Волховской Боратынский пишет несколько портретов Сары, свидетельствующих о внутреннем и внешнем преображении цыганки. Применив эстетическую терминологию, можно сказать, что Сара проходит путь от прекрасно-живописной героини (“ангел-Сара” начала поэмы) до живописно-возвышенной (демоническая безумная плящущая Сара финала).
Действительно, в начале поэмы портрет цыганки смягчен, она наделена отдельными достоинствами прекрасной героини: Сара может очаровывать гостей прекрасным танцем и скромным поведением. Она не пререкается с подвыпившими гостями, хранит молчание, послушна хозяину дома – своему господину Елецкому, – который и вступается за нее, избавляя ее от необходимости угождать его собутыльникам, когда один из них восклицает:
Не правда-ль, братцы, по домамъ!
—
Нѣтъ! пусть попляшетъ прежде намъ
Его цыганка. Ангелъ Сара,
Ну что? потѣшить насъ нельзя-ль?
Ступай, я сяду за рояль.
— Могу сказать, васъ будетъ пара:
Хмель разобралъ тебя совсѣмъ,
Она съ дремоты поблѣднѣла.
„Ты, Сара, спать поди! Зачѣмъ
До утомленья ты сидѣла?
Въ другое время, господа!
Прощайте“.
(“Наложница”, строки 5–16)
В конце поэмы обезумевшая от всего происшедшего Сара, чьими руками – вслепую – было совершено убийство Елецкого, уже не может казаться прекрасною. Вместо того Боратынский предлагает живописный портрет погруженной в свои думы умалишенной женщины, сидящей в тишине. Но тишина эта периодически – словно врывающимся вихрем – нарушается буйством цыганских танцев, в которых Сара, отдавшись порыву вдохновения, сама становится похожа на стихию.
Одна цыганка на постели
Сидитъ недвижно. На гостей
Глядитъ сердито. Роемъ къ ней
Подруги смуглыя подсѣли;
Свой дикій взглядъ она хранитъ,
Устами молча шевелитъ
Или, безсмысленно порою
Вздохнувъ, качаетъ головою.
Но грянулъ своенравный хоръ:
Блеснулъ ея туманный взоръ,
Уста улыбка озарила;
Воскреснувъ въ крикѣ хоровомъ,
Она, веселая лицомъ,
Съ нимъ голосъ яркій огласила:
Умолкнулъ хоръ, и вновь она
Сидитъ сурова и мрачна.
Такъ воротилась въ таборъ Сара.
Судьбы послѣдняго удара
Цыганка вынесть не могла
И разумъ въ горѣ погребла.
Вотще родимые напѣвы
Уносятъ душу бѣдной дѣвы
Въ былые, лучшіе года!
Такъ рѣзвый вѣтеръ иногда
Листокъ упадшій поднимаетъ,
Съ нимъ вьется въ свѣтлыхъ небесахъ,
Но, вдругъ утихнувъ, опускаетъ
Его опять на дольній прахъ.
(“Наложница”, строки 1483–1510)
Сравнивая наложницу Боратынского с живописными покинутыми героинями Вордсворта, отметим различие этих портретов:
1) Борьба, которую показывает Боратынский, – это борьба не с унынием, а с искушением;
2) Поэтому перед глазами Боратынского – вся история искушения, начиная с того момента, когда герои, как бы по мелочам вступая в компромисс с совестью, отдаются любви, через некоторое время претерпевают горькие последствия. Так Елецкий ухаживает за Верой и она отвечает ему, сознательно забывая про существование Сары; Сара желает приворожить Елецкого, обманом подлив ему зелья, не ведая, что в ее руках – быстродействующий яд.
3) На страницах “Наложницы” (таже и “Эды”) нет малых детей;
4) Тайной, притягивающей интерес героев и читателей, в поэмах Боратынского окружены не холмики и руины, а тайные встречи возлюбленных (в историях Веры Волховской и Эды) или поступки отчаявшихся (в истории Сары).
5) Цыганка Сара не является воплощением чистоты и искренности, она не завоевывает безоговорочные симпатии читателя, поскольку глазам читателя предстает картина, где сама Сара служит орудием убийства, после чего предательски скрывается.
Как видно из вышесказанного, изображая женские образы, Боратынский перекликается одновременно с двумя совершенно разными английскими романтиками: Вордсвортом (который неоднократно выводил на первый план пострадавших от мужской любви живописных женщин) и Байроном (который сделал популярным байронического героя, способного глубоко влюбиться в прекрасную героиню, а к живописной героине относиться с приятельским равнодушием).
Отметим еще один интересный момент. Несмотря на сходство разрабатываемых Боратынским и Вордсвортом женских образов, Боратынский включает в повесть сатирические сцены, напоминающие гравюры Уильяма Хогарта. А в поэмах Вордсворта никогда не бывает хогартовских сцен.
Среди знаменитых английских романтиков единственным, кто последовательно продолжал сатирические традиции английской поэзии и живописи XVIII века (Свифт, Хогарт) в своей поэзии, был Байрон. Об этом неоднократно писалось, как за рубежом, так и у нас[9]. В целом, на русской поэзии начала XIX века сатирическое влияние Хогарта сказалось, пожалуй, сильнее, чем на английской романтической. Влияние Хогарта заметно в “кормчей книге” общества “Арзамас” – в поэме “Опасный сосед” Василия Львовича Пушкина (написана ок. марта 1811 года), посетившего Англию в 1803 году. Это некогда подметил приятель В.Л. Пушкина М.Н. Макаров, а в наше время детально показала Н.И. Михайлова[10]. Е.А. Боратынский, который даже написал стихотворение под впечатлением от прочтения “Опасного соседа”[11], создавал и свои зарисовки, выдержанные в похожем хогартовском ключе. В “Наложнице” сцена завершения ночных пирований в доме Елецкого напоминает листы из таких серий Хогарта, как “Модный брак”, “История распутника” и др.:
Буйная орда
Восколебалася. Гуляки
Встаютъ, шатаясь на ногахъ;
Берутъ на стульяхъ, на столахъ
Свои разбросанные фраки,
Свои мундиры, сюртуки;
Но доброй волѣ вопреки
Не споры сборы. Шляпу на лобъ
Надвинувъ, держитъ предъ собой
Стаканъ недопитый иной
И разсуждаетъ: надлежало-бъ
Докончить дѣло! — Недвижимъ
Онъ долго простоитъ надъ нимъ.
Другой предъ зеркаломъ на шею
Свой галстукъ вяжетъ, но рука
Его тяжка и неловка:
Все какъ-то врозь идутъ подъ нею
Концы проклятаго платка.
Къ свѣчѣ приставя трубку задомъ,
Ждетъ третій пасмурный чудакъ,
Когда закурится табакъ.
Лихія шутки сыплютъ градомъ; —
Но полно: вонъ валитъ кабакъ.
„Прощай, Елецкой, до свиданья!“
— Прощайте, братцы, добрый путь!
И, сокращая провожанья,
Дверь поспѣшаетъ онъ замкнуть.
(“Наложница”, строки 16–42)
Этот саркастический дух Хогарта, который крайне редко проникал в поэзию Вордсворта[12] (Вордсворт знаменит другим видом иронии: иронией космической) и был чужд большинству английских романтических поэм, в романтической России нашел множество почитателей. Даже в середине XIX века он процветал в русской живописи, вдохновляя Павла Федотова на такие картины, как “Свежий кавалер” (1846), “Завтрак аристократа” (1849–50), да и на всю федотовскую так называемую “хогартиану” (серия начата в 1844 году).
Предложенное в настоящем выступлении сравнение живописных образов покинутых женщин, создававшихся мастерами русского и английского романтизмов, свидетельствует о том, что русский романтизм охотнее воскрешал ценности и дух английского XVIII века (т.е. серьезных прекрасных героинь, сомнительных живописных героинь и саркастического Хогарта), чем английский романтизм в лице Вордсворта, а затем – и в лице его многочисленных последователей.
[1] Определяя жанр “Наложницы” Е.А. Боратынский называл это произведение то “ультра-романтической поэмой” (письмо И.В. Киреевскому от 29 ноября 1829 г. и письмо к П.А. Вяземскому от 20 декабря 1829 г.), то “романом в стихах” (ответ Е.А. Боратынского от июля 1831 г. на замечания Н.В. Путяты). “Литературная газета”, предвосхищая появление “Наложницы”, описывала ее как “поэтический роман в 9-ти главах” (1830, Т. 2, № 69, С. 270). Цит. по: Гофман М.Л. Примечания [к поэмам Боратынского], 1915 // http://www.feb-web.ru/feb/boratyn/texts/bo2/BO22225-.HTM?cmd=0&hash=Поэмы.Наложница
[2] Здесь и далее текст поэмы цитируется по электронному изданию ФЭБ: Боратынский Е.А. Наложница: Алексею Андреевичу Елагину, 1829—1930 г. // Боратынский Е. А. Полное собрание сочинений / Под ред. и с примеч. М. Л. Гофмана. — СПб.: Изд. Разряда изящной словесности Имп. акад. наук, 1914—1915. Т. 2. — 1915. — С. 74—126.
[3] По-английски и поэмы, и стихотворения обозначаются словом poems.
[4] Подробнее об этом см.: «О “живописных” героинях в Англии первой четверти XIX в.» в статье: Халтрин-Халтурина Е.В. Английская эстетика “живописного” и “Барышня-крестьянка” А.С. Пушкина // Михайловская пушкиниана: Материалы научно-музейных Михайловских Пушкинских чтений “1825 год” (август 2005) и научной конференции “Пушкин и британская культура. Пушкинский круг чтения” (декабрь 2005). Вып. 41. Сельцо Михайловское; Псков, 2006. С. 155–162. См. также текст статьи на сайте: http://ekhalt.freeshell.org/
[5] См. поэму “Разрушенная хижина” (“The Ruined Cottage”).
[6] См. поэму “Колодец на месте последнего прыжка лани” (“Hart-leap Well”).
[7] См. эпизод “Виселица в местечке Пенрит и девушка с кувшином” в поэме “Прелюдия” (“The Prelude” 1850, XII: 225–261).
[8] Подробнее об этом см.: Халтрин-Халтурина Е.В. Английская эстетика “живописного” и “Барышня-крестьянка” А.С. Пушкина // Михайловская пушкиниана… Цит. соч. С. 151–167.
[9] См., например: Byron: Augustan and Romantic / Ed. A. Rutherford. N.Y., 1990; Beer J. Fragmentations and Ironies // Questioning Romanticism. L., 1995. P. 234–264; Халтрин-Халтурина Е. Улыбаясь над своими иллюзиями: место У. Вордсворта среди английских ироничных романтиков // Мир романтизма.– Т. 8 (32).– Тверь: ТвГУ, 2003.– С. 197-204.
[10] Михайлова Н.И. “…Гогартов оригинал, с которого копию снять невозможно” // Н.И. Михайлова. Поэма Василия Львовича Пушкина “Опасный сосед”. Очерки о дяде и племяннике, Буянове и Онегине, “Арзамасе” и “Беседе” et cetera. М.: ЛУч, 2005. C. 30–65. См. также: Герман М. Уильям Хогарт и его время. Л., 1977.
[12] Исключение составляют несколько полусатирических сцен в поэме “Прелюдия, или Становление сознания поэта”. Это, например, кн. III об учебе Вордсворта в Кембридже.
|
|
 |
|