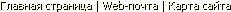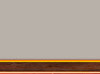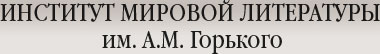|
|
 Научная жизнь
| Конференции
| 2007
| Память литературного творчества
| Хроника конференции
Научная жизнь
| Конференции
| 2007
| Память литературного творчества
| Хроника конференции
ВТОРАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ПАМЯТЬ ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА»
Вторая научная конференция «Память литературного творчества», посвященная, как и первая[1], памяти выдающегося германиста, автора фундаментальных трудов по истории и теории литературы и культуры А.В. Михайлова (1938-1995), состоялась 30 октября – 1 ноября 2007 г. в Институте мировой литературы им. А.М. Горького РАН. В ее работе приняли участие представители разных научных дисциплин (теория и история литературы, философия, медиевистика, фольклористика, стиховедение) из России, Белоруссии, Украины, США.
Конференцию открыл зам. директора Института, д.ф.н. А.И. Чагин, подчеркнувший значение трудов А.В. Михайлова для современной науки о литературе и отметивший актуальность поставленной проблемы для истории и теории литературы: изучение ее «дает нам возможность обращения и ко всем сферам, уровням литературного творчества, и к узловым, порою острым вопросам литературного развития, сообщает необходимую полноту и объемность нашему постижению того или иного открывающегося перед нами художественного мира».
Доклад «Генетическая память литературы» к.ф.н. С.Г. Бочарова, автора идеи научного проекта «Память литературного творчества», носил программный характер. Предметом его анализа стали явления некоей объективной, сверхличностной художественной памяти, неожиданные сближения и переклички в произведениях разных эпох и разных авторов (от Платона до Пастернака), сохранение и передача смысловых комплексов без прямого контактного влияния текста на текст. Такого типа сближения-совпадения нельзя объяснить влиянием или заимствованием. Докладчик полагает, что можно в подобных случаях говорить о генетической памяти литературы. Разрабатывая теоретические подходы к интересующему явлению, С.Г. Бочаров привлекает идею «литературных припоминаний» А.Л. Бема, «коллективное бессознательное» К.Г. Юнга, мысль М.М. Бахтина о «засознательном» в творчестве, понятия «резонантного пространства литературы» В.Н. Топорова и «национальной топики» А.М. Панченко, теорию интертекстуальности Ю. Кристевой – Р. Барта.
В докладе д.ф.н. А.Г. Гачевой «Тема памяти в русской религиозной философии» категория памяти рассматривалась в контексте представления об антиэнтропийной сущности жизни, сознания, культуры, выработанного в лоне отечественной религиозно-философской мысли второй половины XIX – первой трети XX веков. Н.Ф. Федоров и В.С. Соловьев, С.Н. Булгаков и П.А. Флоренский, В.Н. Муравьев и В.Н. Ильин подчеркивали аксиологическую роль памяти, настаивали на синергии «совершенной, творческой» памяти Божией, в которой ничто не исчезает бесследно. В докладе указывалось на связь философии памяти с философией персонализма и философией имени, рассматривался гносеологический аспект темы памяти. Рефлексия Флоренского о памяти как важнейшей составляющей акта познания и акта творчества, подчеркнула докладчица, прямо перекидывает мостик к разговору о памяти литературного произведения. Философ опирается на платоновскую трактовку знания как припоминания, объясняя этим единство культуры, перекличку далеких друг от друга авторов и произведений.
Д.ф.н. Т.А. Касаткина в докладе «"Глубина" образа как функция памяти культуры» формулирует положение о художественном образе, обретающем истинную глубину, когда нечто входит в него из-за границ времени и мироздания. Достаточно очевидны и средства, соединяющие оба плана образа: это аллюзия, реминисценция, ассоциация – намек, напоминание, сведение воедино. Чтобы была создана глубина, два плана должны наложиться один на другой так, чтобы внутреннее не существовало нигде, кроме как во внешнем (любое выговаривание внутреннего впрямую ведет к утрате глубины), образ должен начать являть иное, иное должно начать проступать и преобразовывать образ, порождая в нем смысл, не могущий быть заключенным в очевидно явленном. Ибо прототип не создает глубины, ее создает только первообраз, прототипы же – конкретные проявления в определенном времени типа, воплощенного в образе.
Д.ф.н. С.А. Небольсин обратился к теме «Память писателя и память литературы». Большинство «странных сближений» между плодами творчества разных писателей, перекличек между национальными художественными стихиями (Пушкин и Гёте о Моцарте; русская традиция, трансформирующая Гёте устами и «невольными решениями» Пастернака как переводчика; воспроизведение киргизом Айтматовым в «Белом пароходе» поэтики колумбийца Гарсиа Маркеса как автора «Последнего путешествия корабля-призрака»; воссоздание «Тихим Доном» ряда важнейших содержательных параметров, присущих строю гомеровского эпоса) исключают постановку вопроса о художественной памяти в его элементарно-антропологическом смысле. При всей тонкости памяти писателя о том, что предшествовало его творчеству (и что позволяет говорить о «памяти сердца» чаще, чем о «памяти рассудка»), память литературы и культуры требует дополнительной рефлексии. В том пространстве, где перекликаются друг с другом и резонируют отдалённые («далековатые») и ничего порою не знающие друг о друге голоса культуры, даже и вне вовлеченности в эти процессы писателей как индивидов следует постулировать некую живую, одушевленную среду – и по меньшей мере признавать литературу не менее живым образованием либо даже существом, нежели самого художника.
Д.ф.н. И.А. Есаулов в докладе «Культурное бессознательное и литература» противопоставил фрейдистской и юнгианской версии бессознательного подход, согласно которому представления о бессознательном не ограничиваются лишь созданием текста, но должны учитывать и рецептивную сферу. Литературное произведение вбирает в себя особый вектор читательских ожиданий, несводимых к рационализированному «прочтению». Этот вектор так или иначе укоренен в памяти того или иного типа культуры.
В докладе д.ф.н. Н.К. Гея «Память историческая и память художественная» обсуждалось соотношение двух образов Пугачева у Пушкина: «злодея» в «Истории Пугачева» и «благодетеля» в «Капитанской дочке». Неразрешимую парадоксальность наличия двух Пугачевых, моего и чужого обозначила М. Цветаева. Она обратила внимание на несовместимые трактовки фигуры Пугачева, но не объяснила их. В отмеченном парадоксе заложено понимание неслучайного соотношения исторического и художественного повествования. Пушкин, создавая и обдумывая «Историю Пугачева» и «Капитанскую дочку», мыслил эти родственные, но разноформатные творения в зеркальной композиционной симметрии. Потенциальное соотношение исторического поля с полем художественного сознания позволило воссоздать грандиозное повествование-предостережение от прошлого – будущему. Пушкиным-прозаиком было опробовано жанровое образование – художественно-прогностического предостережения, воссоздано бинарное целое с обратной, по Флоренскому, перспективой.
В докладе д.ф.н. М.М. Гиршмана (Украина) «Воспоминание и память в поэтическом слове» было показано, как в целостности тютчевского стихотворения «Я встретил вас – и всё былое…» проясняются единство, разграничение и «встреча», взаимообращенность состояний «я вспомнил» и «я помню». Эти состояния «деля, съединяет» у Тютчева «заговорившая жизнь», говорящее бытие-общение «разумного гения человека» с «творящей силой естества». Вершиной этого бытия-общения являются состояния памяти и любви, - их связь отчетливо звучит в композиционных центрах зачина и финала тютчевского стихотворения, памятно перекликающегося в этом смысле с пушкинским «чудным мгновением». Память литературного творчества, рассмотренная в аспекте поэтики, предполагает не просто высказывание о памяти, а именно словесно-звуковое воплощение художественного мира, в каждом моменте которого есть память о целом.
В докладе «Топос как проблема теоретической и исторической поэтики» д.ф.н. Т.Е. Автухович (Гродно) отметила размытость понятия топос, диапазон которого колеблется от определения топоса как образа с пространственным значением до топоса как стереотипного образа (клише, схема мысли и т.д.). Поскольку в топосе запечатлена связь семиотического пространства, ментальной деятельности и языка, данный термин носит универсальный и системный смысл. Поэтому теоретическое осмысление топоса предполагает рассмотрение творческого процесса автора, который оказывается в пространстве между топикой как носителем памяти литературного творчества и собственными интенциями. В аспекте исторической поэтики проблематизация топоса означает необходимость выявления механизмов, обеспечивающих потенциальную возможность его участия в процессе смыслообразования.
В докладе д.ф.н. Л.И. Сазоновой «Церковная анафема как один из источников литературной топики» речь шла об особой содержательной форме сохранения и передачи культурной памяти. Литература православного славянства, сохранявшая вплоть до XVIII в. относительное единство, является частью конфессиональной культуры, опирающейся, прежде всего на богослужение. В процессе литургической практики вырабатывалась «коллективная литургическая память». Через литургию, как показали наблюдения специалистов по древнерусской литературе (Л. Мюллер, М. Гардзанити), в сознание книжника входила Библия и цитаты из церковной службы. Частью богослужения является и такой специфический вид текста, как церковная анафема. В докладе прослежено влияние данного документа в качестве прецедентного текста на происхождение сходной метафорической образности в произведениях антимазепинского цикла, удаленных пространственно и хронологически, созданных на Украине и в России, в XVIII и XIX вв.
В докладе к.ф.н. О.Н. Фокиной (Новосибирск) «Рукописный сборник традиционного содержания как форма культурной памяти в системе русской литературы XVIII в.» рассмотрен один из наиболее распространенных видов рукописных сборников - «народный религиозный сборник», его состав, структура, художественные особенности, его место и роль в системе русской литературы XVIII в. Генетически связанные с традиционными средневековыми сборниками, с энциклопедическими и «пестрыми» сборниками XVII в., они являются не просто остатком старины. Поддерживая и сохраняя традицию, рукописные сборники связывали прошлое и настоящее, являясь живой, «почвенной» струей русской культуры. Сборники поздней рукописной традиции можно рассматривать как результат историко-культурного отбора, как особую систему, смысловой доминантой которой является комплекс представлений, отразивших народный этический идеал в традиционных образах.
М.А. Дзюбенко в докладе «Память о церковном расколе XVII века в полемике «архаистов» и «новаторов» 1810-х годов» привел как один из ярких примеров передачи смысловых комплексов без контактного влияния текста на текст – эхом отразившийся в полемике «архаистов» и «новаторов» начала XIX в. раскол в Русской Церкви второй половины XVII в. Несмотря на достаточную изученность этой полемики, без ответа остаются вопросы: почему ее участники, будучи весьма далекими от церковно-исторических проблем, осмысляли это противостояние именно в терминах церковного раскола, и каким образом они транслировали клише событий полуторастолетней давности, давно, казалось бы, забытые и выведенные на далекую культурную периферию.
В докладе к.ф.н. Е.Г. Местергази «Литературная цитата в русском эпистолярном наследии XIX века» на материале писем А.С. Пушкина проанализированы различные виды цитирования (маркированная и скрытая цитата; эпиграф; перефразировка; имя как цитата) и их функции.
В докладе д.ф.н. Н.Д. Тамарченко «Скрытая цитата как отсылка к жанровой традиции (Достоевский и Пушкин)» представлен случай, когда невыделенность чужого текста, неточность и анонимность могут быть способом указания на значимость определенной традиции; авторская же индивидуальность делает именно данный текст наиболее репрезентативным её носителем. В основной части доклада проанализированы такого рода скрытые (а иногда и явные) цитаты в тексте романа Достоевского – из «Пиковой дамы», а также из произведений, представляющих разные варианты традиции гротескной фантастики: готического романа («Мельмот Скиталец»), «неистовой словесности» («Последний день приговоренного к смерти»), романа-фельетона или социально-криминального романа («Отверженные»).
Д.ф.н. В.Ш. Кривонос (Самара) в докладе «Достоевский и Гоголь: сон во сне в романе "Преступление и наказание"» обратил внимание на внутренние переклички между произведениями обоих писателей. Сон во сне Раскольникова актуализирует в романе память о сне Чарткова в гоголевском «Портрете», структуру которого прямо повторяет затем сон Свидригайлова. Объясняя данные сближения, докладчик ссылается на теорию «литературных припоминаний» А.Л. Бема и на исследования С.Г. Бочарова, заметившего, что «…творческий анамнезис был его (Достоевского. – Л.С.) писательским методом».
В докладе к.ф.н. О.Я. Алексеевой «Юбилейный 1899: формы культурной памяти в полемике вокруг А.С. Пушкина» приведены разнообразные историко-литературные факты, позволяющие выявить устойчивые формы интерпретации личности и творчества Пушкина в литературных кругах и русском обществе рубежа XIX и XX вв.
В докладе члена-корр. РАН А.Л. Топоркова «Послание пресвитера Иоанна и "Повесть о Светомире царевиче" Вяч. Иванова: Символистская рецепция средневекового текста» решаются две взаимосвязанные задачи: выявляется структура пятой книги «Повести о Светомире царевиче», озаглавленной «Послание Иоанна Пресвитера Владарю царю тайное», и анализируется соотношение этого текста со средневековым «Посланием пресвитера Иоанна». Сравнение «Повести о Светомире царевиче» с различными версиями «Послания пресвитера Иоанна» и другими текстами Иоаннова цикла позволило предположить, что Вяч. Иванов пользовался скорее всего не древнерусским «Сказанием об Индейском царстве», а самим средневековым «Посланием пресвитера Иоанна». Помимо самого «Послания» Иванов мог использовать ряд сочинений, в которых содержание «Послания» развивалось, дополнялось и перерабатывалось, это «Послание из папской курии», «История клирика Елисея» и др.. Такое предположение обусловлено тем, что в них отмечается целый ряд мотивов, которые, с одной стороны, имеются в «Повести о Светомире царевиче», а с другой — отсутствуют в «Сказании об Индейском царстве».
К.ф.н. Н.Н. Смирнова раскрыла тему «Память/забвение в диалоге о культуре рубежа XIX – XX веков» на материале «Переписки из двух углов» Вяч. Иванова и М.О. Гершензона. Если для М.О. Гершензона забвение – не вторичное образование, но основание памяти, принимающее различные формы в эволюции живого духовного опыта, то для Вяч. Иванова, напротив, роль забвения в духовной культуре связана с тенденцией упадка и в существе своем негативна. Несметные культурные богатства, поставленные на службу абстрактным идеалам Нравственности, Религии, Общества и т.п., воспринимаются М.О. Гершензоном как обладающие подчиненностью и анонимностью: культурная ценность начинает соизмеряться с «презренной пользой»; Произведение, Образ представляются ему самодостаточными по своей природе, однако Цивилизация извращает эту природу. Так возникает идея забвения гибельного пути культуры и необходимости возвращения к изначальной свободе ценности. Мнение Вяч. Иванова в этом диалоге традиционно: культурная ценность способна устоять перед натиском цивилизации. В забвении Вяч. Иванову видится декаданс, разрушение мировой сокровищницы. По мысли же М.О. Гершензона, забвение – вовсе не отказ от культуры, но возвращение к ней через воспоминание ее прежнего свободного состояния.
Анализируя в аспекте памяти культуры «Образ Древней Греции в книге Д.С. Мережковского "Вечные спутники"», к.ф.н. Е.А. Казеева (Саранск) установила наличие трех уровней в организации данного «вечного образа». Первый – в очерке «Акрополь», где Эллада представлена как исток европейской культуры и новой религии Третьего Завета, – передает личные впечатления автора, навеянные посещением культурных и исторических мест, связанных с античной цивилизацией. Второй – посвященные творчеству отечественных и западноевропейских писателей статьи, в которых Д.С. Мережковский ставит ряд важных проблем, обращаясь к реалиям политики, истории, культуры Древней Греции. Третий – воссоздание образа Эллады на уровне изобразительно-выразительных средств, чаще всего сравнений с «греческим» колоритом.
В двух докладах рассмотрена тема русского францисканства. Доклад к.ф.н. И.Л. Поповой «Образ Франциска Ассизского и францисканские мотивы в русской литературе XIX и XX веков: проблема “памяти” и “припоминания”» посвящен путям и механизмам усвоения францисканской традиции русским литературным, религиозным и философским сознанием в XIX и XX вв. Фундаментальное разделение механизмов памяти культур, ориентированных на устное и письменное слово, в европейской традиции восходит к диалогу Платона «Федр», уподобившему устное слово средству для памяти, а письменное – средству для припоминания. Как работают механизмы устной памяти в культуре, ориентированной на книжное слово, - францисканская традиция, изначально предпочитающая устную передачу, придающая исключительное значение живой беседе, в этом аспекте представляет особый интерес. В докладе рассмотрены две «волны» усвоения францисканской традиции: одна, в первой половине XIX в., представляла собой сочетание устной и письменной передачи, другая, в начале XX в., была систематизированным книжным знанием. Механизмы и «ошибки» устной и письменной памяти при усвоении францисканских мотивов и образов исследованы в докладе на примере романа Достоевского «Идиот» и повести С.Д. Кржижановского «Клуб убийц букв».
Тему продолжил доклад д.ф.н. Е.В. Ивановой «Резонантное пространство русского францисканства (Б. Пастернак и А. Добролюбов)», в котором было обращено внимание на независимое друг от друга появление у обоих поэтов буквально совпадающей стихотворной строки, отмеченной несомненным влиянием Франциска Ассизского. В одном из неопубликованных стихотворений А. Добролюбова 1907 г. возникла навеянная Франциском Ассизским строка: «Вдруг упал я ниц лицом до земли / Пред тобою, сестра моя жизнь!» Между тем заглавие сборника Б. Пастернака «Сестра моя – жизнь» (1917) и первая строка одного из его стихотворений относятся ко времени, когда связи Добролюбова с образованным обществом окончательно прервались. Франциск Ассизский был хорошо известен Пастернаку, не в последнюю очередь благодаря тому, что его друг С. Дурылин являлся одним из пропагандистов Франциска в России. По мысли Е.В. Ивановой, русское францисканство – это определенная форма восприятия природы и всего живого, делающая возможным рождение сходных или одинаковых образов, что и позволяет называть его «резонантным пространством».
В докладе к.ф.н. Т.В. Марченко «Кавказ, море, дуэль: о реализме и модернизме бунинского цикла "Темные аллеи"» проблема творческого метода И.А. Бунина рассматривалась в соотнесенности с проблемой литературной памяти. Провозглашенный в свое время традиционалистом, Бунин был им – или казался – лишь формально. По сути же его произведения впитали многое из художественного опыта модернизма. Бунинское искусство литературного контрапункта продемонстрировано анализом новеллы «Кавказ» (1937).
Д.ф.н. Э.Г. Шестакова (Украина) в докладе «Проблема кинематографического кода в художественном мире И.А. Бунина как проблема культурного предвосхищения (на материале рассказа «Пароход “Саратов”») высказала предположение, что память литературного творчества связана не только с поступательно-накопительным взаимодействием различных явлений культуры и словесности, но активно воплощается также в форме предчувствия, предвосхищения некой культурно-словесной субстанции, которая в своих истоках включает в себя многие мощные и уже устоявшиеся традиции существования литературы. К явлениям сверхличностной культурно-словесной памяти докладчица относит кинематографический культурный код, прослеживает особенности его реализации на материале одного из поздних рассказов И.А. Бунина «Пароход ''Саратов''» и приходит к выводу, что художественный мир писателя пропитан тенденциями становящейся аудиовизуальной эпохи культуры, в которой кинематографическому коду суждено сыграть одну из ведущих ролей.
Д.ф.н. Э.А. Бальбуров (Новосибирск) в докладе «Память и художественное завершение» рассмотрел феноменологический и эстетический аспекты памяти в их взаимосвязи. Повторяя моменты жизни в своих бестелесных копиях, память не дает им рассеяться. Благодаря памяти мир аутентичен, мы узнаем его. Сохраняющую роль памяти перенимают и подхватывают знак, письмо, текст. Философский дискурс памяти имеет очевидные пересечения с ее эстетическим дискурсом, в частности, с эстетикой завершения М. Бахтина: «Память эстетически продуктивна», она «владеет золотым ключом завершения личности». Бахтин различает два вида завершения, определяемых отношением к прошлому: как полностью завершенному (классический эпос) и как становящемуся в свете незавершенного настоящего (роман и романизированные жанры). В докладе рассмотрены предельные формы романизации в прозе М. Пруста ("В поисках утраченного времени"), И. Бунина ("Жизнь Арсеньева"). Если классический эпос помнит, то Пруст и Бунин вспоминают, причем не то, что было, а то, каким прошлое является им сейчас. В феноменологии Гуссерля такой род памяти называется «ретенцией».
В докладе к.и.н. О.Б. Сокуровой (Санкт-Петербург) «Преемственность тем, проблем, героев в русской литературе (к постановке проблемы)» поставлен вопрос о значении сквозных тем и ключевых образов для понимания внутреннего единства, цели и ценности отечественной словесности. В качестве примера были рассмотрены тема Закона и Благодати, хронотоп пути-дороги, а также связанные с ним образы «блудного сына» и странника в произведениях Древней Руси и в русской литературе XIX-XX вв.
В докладе д.ф.н. В.И. Тюпы «Неотрадиционализм как явление художественной культуры новейшего времени» речь шла о таком направлении модернистской (постсимволисткой, неклассической) литературы, которое – в противовес авангардистским разрывам с культурой прошлого – осуществляло онтологически серьезное и одновременно творческое отношение к вековым традициям художественности. В России начало этой межнациональной тенденции было положено акмеистами, в Западной Европе – Т.С. Элиотом.
В докладе к.ф.н. Е.С. Шевченко (Самара) «Ранний русский авангард: культурная память как проблема» понятие «культурная память» рассматривается, по терминологии В.Н. Топорова, как «резонантное пространство», объемное и многоуровневое. Была сделана попытка определить те сегменты пространства культурной памяти, которые резонируют в искусстве раннего русского авангарда, прежде всего литературного. В качестве материала привлекается преимущественно творчество кубофутуристов. Е.С. Шевченко подчеркнула, что именно пространственные искусства стали для поэзии источником не только идей, но и креативных технологий, то есть оказали «моделирующее воздействие» (Ю. Лотман) на искусство слова. Новая живопись, примитив и детский рисунок, театр в его балаганно-ярмарочной традиции, цирк, лубок, кинематограф возвращали искусству игровое отношение к миру. В процессе создания авангардных художественных форм оказались востребованы архаические структуры мышления. Помимо культурных, авангард обращается к докультурным пластам памяти.
В докладе д.ф.н. А.Я. Эсалнек «Архетипичность в структуре романного жанра» обсуждался и уточнялся известный тезис, согласно которому именно жанр, в том числе роман, является носителем и хранителем литературной памяти. Исходя из того, что сущностное ядро романа, его основополагающее типологическое качество заключается в изображении личности в той или иной жизненной ситуации, а понимание личности предполагает знание ее внутреннего мира, т.е. сложной психической организации, автор доклада обращается к размышлениям о своеобразии этой структуры, опираясь на многочисленные работы психологов, в которых ставится задача выяснения «целостной картины психической жизни личности» (А.Г. Асмолов) и утверждается, что эта картина не может быть полной без учета различных сфер и аспектов бессознательного. При этом, бессознательное, так же как и сознание, обладает способностью хранения и передачи опыта. Поэтому роман, с самого начала своего существования обращенный к проблеме личности, занимает достойное место в ряду художественных феноменов, способных донести до потомков те или иные виды литературной памяти.
Постоянно присутствующая в памяти художественного сознания связь с мифом (субъектно-объектным мышлением), даже если эта связь не рефлектируется субъектом эстетического суждения, отмечена в докладе к.ф.н. М.Ю. Лучникова (Кемерово) «Литературно-критическая оценка и архаические формы сознания».
В докладе к.ф.н. Е.А. Иваньшиной (Воронеж) «Текст как пространство литературной памяти (от ‘’Полотенца с петухом’’ к ‘’Мастеру и Маргарите’’ М. А. Булгакова)» предметом анализа стал оптический потенциал булгаковского текста, понимаемого как модель культуры, а следовательно, как функциональный аналог памяти (формой которой и является культура). Показано, как в рамках «двухуровневого» пространства булгаковского сюжета разыгрывается событие преемственности культурного опыта – особого вида зрения, которому автор в процессе чтения обучает читателя и который в ситуации гибели старой культуры противостоит разрушительному опыту истории. Это противостояние актуализировано как конфликт «нижнего» (непрописанного, тайного) сюжетного плана и плана «верхнего» (явного). Потаённый план составлен из телескопических фокусов памяти, образующих у Булгакова устойчивую кодовую организацию, обеспечивающую сохранность и передачу культурных ценностей в ситуации гибели культуры. В качестве таких фокусов, переводящих сюжет гибели в сюжет спасения, в докладе рассматриваются образы змея и петуха, ковчега и острова, горы и вулкана, а также их вариации. Реконструкция кода памяти позволяет прочитать потаённый сюжет, что равносильно восстановлению испорченного временем манускрипта.
В докладе к. пед. н. С.Г. Лавлинского «Рецепция "точечной" границы у С. Кржижановского (на материале рассказа "Четки")» внимание акцентировано на имагинативном парадоксе кумулятивного сюжета: рефлектируя свой визионерский опыт, герой "психомиметически" приобщается к трансцендентным способам восприятия реальности, культуре "перцептуальной памяти".
В докладе д.ф.н. О.А. Овчаренко «Философия имяславия и ономастическое пространство в творчестве Леонида Леонова» доказано, что Л. Леонов был знаком с философией имяславия и опирался на ее основные постулаты в создании внутренней структуры своих произведений, большинство из которых создавалось в подцензурных условиях. Особенно явственно идеи имяславия отразились в трактовке значимости имени Божьего в романе «Пирамида», где речь идет, в частности, о возможности последней, коллективной исповеди человечества, во время которой Шатаницкий подстрекает сельского священника Матвея Лоскутова произнести слова «Бога нет!». Во многих произведениях Леонова, отражающих происходящие в России социальные перемены (романы «Барсуки», «Соть», «Вор»), ставится вопрос о переименовании людей, улиц и городов, в чем писателю видится жестокое насилие над человеком и природой. Сохранение человеком изначально данного ему имени рассматривается Леоновым как сохранение его божественной природы, подчас неузнаваемо искажаемой социальными катаклизмами. Исследование ономастического пространства творчества Леонова тесно связано с проблемой памяти культуры.
В докладе проф. Н.И. Ильинской (Украина) «Память о юродстве в русской поэзии рубежей ХХ века» представлены различные трансформации канонического юродства как памяти о нем: это модификация мотива посмертного признания святости поэта-юродивого в лирике О. Мандельштама; гротескная модель юродства как уподобления Христу в религиозно-поэтическом сознании А. Белого; идентификация лирического субъекта с парадигмальными чертами юродства в творчестве А. Вознесенского; маска юродивого как форма антиповедения в поэзии В. Блаженного, реконструкция и переосмысление таких черт, как скитание «меж двор», «духовное странничество». В докладе отмечено, что обращение к культурной памяти как источнику креативных стратегий и положительных ценностей типологически сближает переходные эпохи рубежей ХХ в.
М.А. Бологова (Новосибирск) подняла тему культурного беспамятства, своего рода «манкуртства» в докладе «Два рассказа с Верой: в поисках единого смысла ("Помазанник и Вера", "Как мужик в люди выходил" А. Эппеля)». Если в первом из рассказов и имя Вера, и все архетипические смыслы на месте, то во втором герой, вышедший "из грязи в квази", произносит знаменательную фразу "Вера, ты в чем?" (речь идет о том, в чем она одета: травестируется известный заголовок Л.Н. Толстого «В чем моя вера»).
В нескольких докладах проанализированы память ритма, поэтические «автоматизмы» и проблема своего-чужого в ритмической композиции поэтического произведения. В центре доклада д.ф.н. И.Н. Лагутиной «Наше бедственное, прозаически-разрушительное время…: от романтической теории универсальной поэзии к прозаизации стихотворного текста (А. Шамиссо и В.А. Жуковский)» – появление в европейской литературе в первой трети XIX в. особой стихотворной формы для передачи прозы стихами. Этот процесс рассмотрен на примере воздействия поэтических переводов А. Шамиссо и его экспериментов с терцинами (erzählendes Terzinengedicht) – в духе теории универсальной поэзии Фр. Шлегеля, на стихотворную повесть позднего В.А. Жуковского.
Проф. Р. Вроон (США) выступил с докладом «Акустическая память как сверхличностный творческий импульс (на материале Набокова, Бродского и др.)». Изучение интертекстов обычно подразумевает обнаружение и толкование реминисценций и цитат, сознательно введенных автором в литературное произведение. Реже обращают на себя внимание заимствования устойчивых фонологических и ритмических фигур, а также крылатых слов и оборотов, маркированных исторически и культурно, однако не подлежащих четкой атрибуции. Явления этого рода представляют собой рефлексы так называемой «акустической памяти». Сам термин заимствован из сферы когнитивной психологии, где он обозначает механизм кратковременной памяти, при котором слуховые образы сохраняются в форме, отражающей их акустические свойства (A. Reber. Dictionary of Psychology, 1995). Применительно к литературному творчеству речь идет об акустических впечатлениях (часто оперирующих на до-логическом уровне), которые в силу их постоянного резонирования в окружающей среде входят в фонд долговременной памяти и спонтанным образом вкрадываются в текст. Они особенно часто обнаруживаются в текстах, где возникает напряженное взаимодействие между двумя (или несколькими) культурно-языковыми контекстами (например, в случаях многоязычия). На основе примеров из оригинальных и переводных произведений В.В. Набокова, И.А. Бродского и В.В. Хлебникова и др. в докладе рассмотрены разнообразные рефлексы акустической памяти и поставлен вопрос о целесообразности применения этого понятия при анализе творчества данных писателей.
В докладе д.ф.н. Ю.Б. Орлицкого «Память метра (метаморфозы структуры и семантики русского гексаметра)» речь шла о постепенном расшатывании структуры этого специфического типа отечественного стиха, первоначально созданного специально для переводов и переложений античной поэзии; параллельно, как показал докладчик, происходило и вытеснение «античного» семантического ореола данного типа стиха. Сначала, начиная с середины XIX в., отмечается его ироническое переосмысление, а затем, уже в поэзии Серебряного века, начинается полная нейтрализация «античной» памяти. Завершается этот процесс в последние десятилетия XX в., когда интерес к русскому гекзаметру вновь пробуждается; однако теперь связь с античной проблематикой и поэтикой носит относительный и опосредованный характер.
К.ф.н. Ф.Х. Исрапова (Махачкала) выступила с докладом «Явление субъектного синкретизма в рамках сюжета "поэзия на ходу" в лирике (на материале поэзии Гете, Эйхендорфа, Блока, Гумилева, Ахматовой, Маяковского)». Формула «поэзия на ходу», предложенная Мандельштамом в «Разговоре о Данте» для характеристики творческого поведения поэта, раскрывается как такой сюжетно-тематический комплекс, в котором творческое поэтическое усилие – «петь», «говорить», «(рас)сказывать», «произносить», тем или иным способом проявлять свой «голос» - сопровождается / предваряется таким физическим действием, как «ходьба», «пеший ход», «прогулка», «блуждание», «бродяжничество» и т. п.
В нескольких докладах специальное внимание было уделено проблеме интертекстуальности. В докладе «К вопросу о памяти литературного творчества: сравнительный анализ категорий “диалог” М.М. Бахтина и “интертекстуальность” Ю. Кристевой» д.ф.н. А.Ю. Большакова, сопоставляя концепции названных ученых, подчеркнула теоретико-методологическое значение введенных ими категорий для изучения «механизмов» движения литературы в едином культурно-историческом пространстве, в «большом времени» (термин М. Бахтина) и рассмотрела различные формы диалогических отношений, а также их роль в формировании феномена памяти литературного творчества (использование «чужого слова», цитатность, реминисценции и пр.).
Д.ф.н. Н.А. Фатеева в докладе «О разных уровнях понимания интертекстуальности» отметила, что, хотя об интертекстах написано немало, немногие из исследователей пытались предложить классификацию интертекстуальных элементов и соединяющих их межтекстовых связей. Объяснение этому кроется в том, что явление «интертекстуальности» проявляет себя на разных уровнях литературного текста, включая сам способ его записи и оформления внутритекстовых единиц. Этому последнему — метаграфическому аспекту интертекстуальности как форме сохранения и передачи литературной памяти и был посвящен данный доклад.
Тема доклада А. Кузнецовой (Université Paris 8) – «Связь категории "восхищения" (admiratio) с "руинами реминисценций" в творчестве Филиппа Жакоте». Память Филиппа Жакоте хранит слова многих поэтов. Множество образов из иных поэтических вселенных занимают место в его мире, организуют его внутреннее пространство. (На протяжении жизни Жакоте не только писал оригинальные тексты и много переводил, но и работал критиком в разных журналах и поэтому был хорошо осведомлен о состоянии современной ему поэзии.) Неуловимый и неиссякаемый источник admiratio питает и укрепляет живые конструкции его собственного поэтического мира. Необходимая составляющая восхищения (связанного с реальностью посредством аффективной памяти) – это образы, созданные другими поэтами на любом из этапов культурного становления; проблематика интертекстуальности неотделима от поэтики восхищения, потому что стихотворные строки и образы, приходящие на ум в определенный момент творческого процесса, не только являются необходимыми точками отсчета, ориентирами в борьбе с хаосом и разрушением, но еще они побуждают ответить этим далеким голосам, одолевая тем самым смерть.
В докладе «Почему Шекспир запретил Шуту и Корделии встречаться: о нарушении этого запрета и об утрате культурной памяти в постановках “Короля Лира”» к.ф.н. Е.В. Халтрин-Халтурина, сравнивая оригинальные редакции пьесы Шекспира о короле Лире с ее творческими переработками конца XVII – начала XXI веков, продемонстрировала, как сообразно историко-культурному контексту изменились условия зрительского восприятия и иерархия изначальных авторских смыслов. В текстах шекспировской трагедии о короле Лире имеется особенность, которую постановщики переносят на сцену просто механически либо не переносят вовсе: два героя, приближенные Лиру и тоскующие друг по другу – младшая дочь Корделия и королевский шут, ни разу не появляются на сцене одновременно. Эта загадочная деталь отличает пьесу Шекспира от всех ее источников и подражаний. Во многих современных талантливых постановках «Короля Лира» Шут и Корделия встречаются на сцене. Перед нами пример модифицированной культурной памяти, когда трагедия Шекспира сменила за несколько эпох свой жанр, перестав быть трагедией медленной де-сакрализации монарха и трансформировавшись в трагедию семейных отношений обычных людей или в трагедию тщеславия и неблагодарности.
Д.ф.н. К.А. Чекалов рассмотрел в докладе «Тайна пяти чемоданов» эволюцию в литературе XVII-XVIII вв. сюжетного мотива «найденный чемодан» (результат гибридизации таких распространённых в мировой литературе метажанровых структур, как «найденная рукопись» и фиктивный эпистолярий). Зародившись в начале XVII в. в Италии («Парнасские известия» Т. Боккалини), мотив полностью оформился в книге «итальянского либертина» Ферранте Паллавичино «Ограбленный курьер» (1640), соединившей нарративную традицию ренессансной новеллистической книги с острой публицистичностью и политической провокативностью. Он присутствует в микроновелле Франческо Пона из коллективного сборника «Сто любовных новелл» (1641-1651), во второстепенном сочинении французского беллетриста Жана де Прешака «Вскрытый чемодан» (1680). Наиболее интересной представляется версия, предложенная А.Р. Лесажем в его предпоследнем сочинении «Найденный чемодан» (1740). Сохраняя присутствующие уже у Пона элементы готизма, Лесаж насыщает повествование поэтологической проблематикой (предвосхищение просветительской рефлексии о театре), внедряет в него пространную испанизированную новеллу «Любовь побеждает месть», а самое главное – включает в текст пространную подборку из памятника византийской прозы «Любовные письма Аристенета», преподнося их как находившуюся в том же чемодане рукопись (эксплицируя тем самым «манускриптную» составляющую мотива). Перевод «Любовных писем Аристенета» был выполнен Лесажем на заре его писательской карьеры и не возымел успеха; заново реактуализируя его, писатель припадает к долговременной культурной памяти и возвращает эпистолярию его изначальную риторичность, переработав византийский памятник в духе галантной риторики.
В качестве стендовых были представлены доклады д.ф.н. В.Д. Сквозникова «Пушкин в осознании русских поэтов», И.М. Костенко «К проблеме типологии двойничества», А.А. Булгаковой (Белоруссия) «Топос мир в поэме С. Боброва «Херсонида», В.Б. Зусевой «Память жанра в романе А. Жида "Фальшивомонетчики"».
Доклады и дискуссия выявили разнообразие подходов к многоаспектной проблеме памяти литературного творчества. Они продемонстрировали со всей очевидностью, что изучение данного феномена ориентирует не только на исследование непосредственного, контактного влияния текста на текст и установление традиции восприятия литературных сочинений последующими эпохами, но предполагает также осмысление тождественных по своему характеру элементов художественного языка и смысловых комплексов, которые обнаруживаются в несоприкасающихся между собой произведениях литературы и потому не являющихся результатом заимствования. Конференция подтвердила перспективность изучения проблемы памяти литературного творчества, разработка которой открывает новое направление теоретических исследований.
[1] См.: Сазонова Л.И. Международная научная конференция «Память литературного творчества» // Известия АН. Серия лит. и яз. 2004. Т. 63. № 3. С. 70-72.
|
|
 |
|